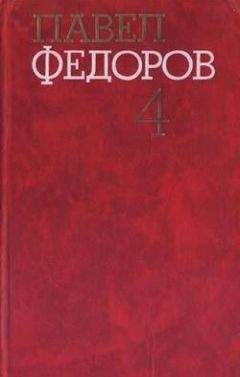– Ишь ты какой тонкорунный! Ты о своей шкуре печешься, а у меня само сердце кровью запеклось. Ладно, милок, не дуйся. Садись рядком, да поговорим ладком.
– А мне-то, думаешь, сладко? – Он быстро повернулся к ней и в упор встретился с ее открытыми, влажно блестевшими глазами.
– Знаю. – Из ее груди вырвался судорожный вздох.
Легким порывом степного ветра разбуженно зашелестели на верхушке стога сухие, звонкие листья. Олимпиада отодвинулась. Микешка покорно сел рядом. Хорошо пахло сочным луговым сеном.
– Ты, говорят, на службу идешь? – покусывая пунцовыми губами высохший листочек, спросила Олимпиада.
– Черед, никуда от этого не денешься, – пожал плечами Микешка.
– Не хочется небось?
– Какая там охота! – вздохнул Микешка.
– Начнется война, убьют, как моего Алешку… – стиснув зубы, медленно и безжалостно проговорила Олимпиада.
– А об этом я, Липочка, не думаю. Не во мне суть… – твердо ответил Микешка.
– Вспомнил мое старое имечко?
– Так, к слову пришлось. Прости, ежели снова не угодил.
– Нет, отчего же! Спасибо, что вспомнил. Хочешь, – после минутного молчания продолжала Олимпиада, – хочешь, я тебя от службы вызволю?
– Как это ты можешь сделать?
– Скажу своему Авдею-лиходею словечко, а он тряхнет воинского начальника, и все дела.
– Он у тебя в самом деле лиходей, – усмехнулся Микешка.
– Так хочешь или нет? – настойчиво спросила Олимпиада.
– Если можешь… ну что ж, валяй, – нехотя ответил Микешка.
– «Валяй»! – усмехнувшись прищуренными глазами, передразнила его Олимпиада.
Подрумяненное морозцем лицо ее было очень красиво и близко. Запах пухового платка, в который она кутала белую, без единой морщинки шею, кружил Микешке голову.
– Ты чего это раскис? – поймав его затуманенный взгляд, лукаво спросила она и легонько толкнула плечом.
– Да так, – ответил он.
– Так-то, миленочек мой, и пупырышек не садится… – вздохнула она и, без всякой связи с прежним разговором, вдруг добавила: – Мне иной раз так ребенка хочется, что в грудях даже ноет…
– За чем же дело стало? – дивясь ее откровенности, спросил Микешка.
– Дурак ты. – Олимпиада протянула руку и поймала торчавший сбоку конец смятого Микешкиного кушака. Намотав его на палец, сильно дернула. Кушак ослаб и распоясался.
– Озоруешь, барыня… Гляди, а то я тоже осатанеть могу… – пробуя взять из ее рук кушак, сказал Микешка, чувствуя, как дрожат его тяжелые, жесткие руки.
– Вот я и хочу, чтобы ты осатанел… – смеясь, она вырвала кушак, накинула ему на шею и потянула к себе.
После короткой борьбы Микешка нашел ее жаркие, мягкие губы. На секунду она сникла. Но вдруг, резко оттолкнув его голову, перевернулась на бок и быстро вскочила.
– Ишь чего захотел, черт некрещеный! – беззлобно проговорила она и, швырнув ему кушак в лицо, запахнула шубу. – Вот приедем домой, расскажу все Авдею своему, будет тебе отсрочка… – искоса посматривая на растерянного кучера, продолжала она.
Микешка молча опоясался и затянул кушак. Потом нагнулся, поднял кнут и расправил его.
– Дашеньке твоей объявлю, что ты за хлюст…
Этого Микешка стерпеть не мог. Торопливо, дрожащими пальцами он сложил кнут вдвое и несколько раз стеганул Олимпиаду по плечу. Удар по шубе был тупой, но достаточно сильный. Почувствовав боль, Олимпиада резко отскочила в сторону и убежала за стог и уже оттуда крикнула гневно:
– Ты что, черт, ошалел?
– Подойди сюда, я тебя еще разок опояшу… Тогда заодно иди и жалуйся! – не трогаясь с места, крикнул Микешка.
– Да я же нарочно сказала, балда ты этакая! – всхлипнула Олимпиада.
– От такой всего можно ждать… – Микешка повернулся и направился к лошадям. Пока он не спеша поправлял сбрую, Олимпиада вышла на дорогу, спотыкаясь о кочки, быстро зашагала вперед.
Спустя несколько минут Микешка догнал ее, остановил лошадей, не оборачиваясь, коротко сказал:
– Садись.
Она села и, закутавшись в платок, отвернулась.
К стогу подбиралась короткая полуденная тень. Солнце освещало только самую макушку, где озорничал высохшими листьями сухой морозный ветер-степняк и, догоняя отъезжавших, холодил их разгоряченные лица…
После похорон Анны Степановны вскоре ушел на действительную службу и Гаврюшка Лигостаев. Внешне он как будто примирился с отцом, уходя из дому, горько плакал, а перед этим много пил и пытался буянить. Но отец крепкими, как железо, руками взял его в охапку, положил на кровать и быстро утихомирил. Унес сын глубокую в сердце обиду. Пьяный, он упрекал отца за то, что тот не дал ему Ястреба. Но Петр Николаевич остался непреклонен. После многих споров и пререканий продали пару быков, прибавили сто рублей из экипировочных и купили у Полубояровых рослого, гнедо-карей масти трехлетка. В призывной комиссии Гаврюшка был зачислен в гвардию, прошел по всем статьям и конь. Скучно и как-то пусто стало в притихшем доме Лигостаевых Во дворе сиротливо оголился старый сучкастый вяз, грустно покривился дощатый на воротах теремок. В просторной комнате одиноко ползала с соской во рту маленькая Танюшка.
Петр Николаевич с прииска уволился и занялся только хозяйством. Помогали ему Сашок и Степанида. Семья уменьшилась наполовину, а забот стало больше. На конюшне стояли приведенные Тулегеном жеребые кобылицы. К рождеству отелились две коровы. Почти каждый день, в самые лютые морозы по ночам ягнились овцы, за которыми надо было постоянно следить.
Как-то, оставшись одна в доме, Степанида днем прокараулила суягную овцу. Овца принесла двойняшек. Ягнята замерзли.
В этот злосчастный день Петр Николаевич с Сашком ездили в степь за сеном и вернулись только под вечер. По дороге у них опрокинулся воз и загородил дорогу. Пока сено перекладывали, поднялся тугой с востока ветер и вместе с клочьями сена погнал по степи колючие ручейки снежной поземки.
Иногда налетали такие вихри, что вырывали из рук пухлые пласты душистого слежалого сена. На возу стоял Сашок и плохо справлялся с большими, тяжелыми охапками. Воз кривился то на одну, то на другую сторону.
В это время навстречу на трех бычьих парах подъехал с сыном Кузьма Катауров. Поскрипывая обшитыми кожей валенками, Кузьма подошел к Лигостаеву и, не поздоровавшись, начал ругаться:
– Ну чего на дороге расчухались?
– А ты что… ослеп? – прибивая вилами топырившийся угол воза, сердито ответил Петр Николаевич.
– А куды я объеду? Хочешь, чтобы я дышла перекорежил! Сугроб-то два аршина будет, – ярился Катауров.
– Я, что ли, его намел? – спросил Лигостаев. – Порожняком-то и объехать можно.
– А ты что за указчик? Ты что учить меня вздумал? Ты дочерю свою учи!.. Видал я ее намедни, паскуду…
– Ты чо, гад, задираешься, а? – перехватывая в руках вилы-тройняшки, глухо спросил Петр. Склеенные ледышками усы его напряженно дрогнули. – Тебе что, дочь моя дорогу перешла?
– А ты как, басурман, думал? – злорадно кривя губу, продолжал Кузьма. – Мало, что осрамила всю станицу, должности меня лишила, погань такая! Жалобу на меня подмахнула, с политическими стакнулась.
Сбросив с вил пласт сена, Лигостаев поднял березовый черенок и, грузно топча валенками разрыхленный снег, шагнул к Катаурову. Из-под седой, запорошенной снегом папахи на обидчика черно смотрели страшные, остановившиеся глаза. Кузьма не выдержал их взгляда и быстро попятился назад.
– Отстаньте от него, папаня! – крикнул стоявший у передних быков сын Катаурова, Никон.
– Где жердь? Тащи, Конка, бастрик! – кричал Кузьма. – Я его сей минут пришибу!
Петр угрожающе поднял вилы.
– Да вы что, спятили? – загораживая собой отца, сказал Никон. – Что вам, места мало на белом свете? Оставьте его, дядя Петр! Выпивши он, ей-богу! – взмолился Никон.
Петр остановился и опустил вилы в снег со словами:
– Скажи спасибо сыну своему. А то бы я тебе выпустил требуху-то…
Брезгливо сплюнув, он уперся грудью на черенок и отвернулся. На душе было пусто и мерзко.
– Грозишь, а ведь не тронешь! – спрятавшись за толсторогого пестрого быка, огрызался Кузьма. – Тронул бы, так тоже бы отправился по сибирской дальной…
– Уж куда бы ни шло, а зря рук марать не стал бы… пропорол бы – так насквозь, – сурово проговорил Петр и, повернувшись, пошел к своему возу, откуда, зарывшись в сено, выглядывали испуганные Санькины глаза.
Поплевав на руки, Петр Николаевич воткнул вилы в хрустящее сено и поднял тяжелый, объемистый пласт. Тем временем Никон согнал передних быков на целину и повел их по глубокому и крепкому снегу. Ломая и выворачивая белые ковриги наста, крупные, сытые животные, скрипя о дышло ярмом, разбили сугроб и, посапывая заиндевевшими ноздрями, выволокли тяжелые сани на торный шлях. Остальные подгоняемые Кузьмой две пары прошли легче. На ходу вскочив на последнюю подводу, Катауров, грозя Петру кнутом, сказал: