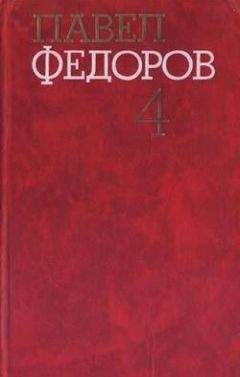– А ну, выдь сюда! – уступая ей в дверях дорогу, тихо и властно проговорил Лигостаев.
– Вы что хотите? – невольно подчиняясь его тону, с тревогой в голосе спросила Степанида и, стараясь унять дрожь во всем теле, боком проскользнула в кухню.
Петр Николаевич плотно прикрыл дверь, крутя трясущимися пальцами цигарку, жестко и порывисто заговорил:
– Ты с каких это пор надо мной изгаляться вздумала?
– Это вы измываетесь! – крикнула Стешка, некрасиво кривя губастый, чувственный рот. – В судомойку меня превратили! Скотины полон двор, а вы работника нанять не можете! Я тут хозяйка, а не чертоломка какая!
Свекор опешил и притих, но Стешку не мог теперь остановить и сам дьявол.
– Одного навозу не перевернешь! – Она сегодня уже второй раз упоминала навоз, хотя сама никогда его не чистила. Это начинало бесить Петра Николаевича.
– Горшков да корчаг как арбузов на бахче! Возьму да все расшибу к такой матери! Вы меня доведете! – разъяренно кричала Стешка.
Грубое, площадное слово в устах Степаниды прозвучало отвратительно. Лигостаев сорвал со стены старый кнут и без всякой пощады два раза хлестнул сноху по заду. Стешка взвизгнула и присела. Петр, бросив кнут в угол, не помня себя выскочил в сени.
Во дворе он стащил с головы папаху, вытер разгоряченное лицо. С неба густо валил снег. За плетнем злобно вьюжился сыпучий сугроб, извилисто заостряя белесый, крутой гребень. Холодный ветер освежал лицо. Снежинки липли к щекам и, растаяв, остуженными каплями вместе со слезами сползали к всклокоченным усам. «Что же я наделал?» Сознание совершенного им поступка остро отозвалось в сердце. Еще никогда ни на кого из домашних не поднималась его рука. За всю жизнь не тронул пальцем ни жену, ни детей, а тут не сдержался и дал волю. Тяжко и горько было на душе у Петра Лигостаева. Он вошел в полутемный, мрачный, пропахший мышами и пылью амбар, присел на край сусека, свернул цигарку и жадно затянулся. На стене висели старые, полуоблезлые хомуты, наборная из тоненьких ремешков уздечка Ястреба, а рядом с ней новые вожжи. Вдоль каменной стены стояла долбленная для лодки, похожая на длинный гроб колода, изъеденная на боках червоточиной. На все это знакомое добро Лигостаев смотрел сейчас с холодным и равнодушным отчуждением. Только азиатское Маринкино седло с круто выгнутой передней лукой, с цветной на кошмовом потнике обшивкой, аккуратно заметанной покойной женой, напоминало о былой радости в этом доме. Куда это все ушло? Казалось, что жизнь беспощадно обманула его и теперь насмехается над его совестью. История с дочерью, казалось, несмываемым позором легла на его душу и повлекла за собой смерть любимой жены. С этого момента он утерял ту самую главную нить в жизни, за которую так прочно держался. Ощущение гнетущей пустоты становилось все сильнее и сильнее. Некому было сердечного слова сказать и не за что было ухватиться. С того дня, как схоронили Анну Степановну, Петр Николаевич сильно привязался к внучке. С ней как-то легче переносилось постигшее его несчастье. До сих пор этот маленький светлоглазый человечек был тем главным связующим в семье звеном, на котором так радостно расцветает домашний быт. Однако слишком тонкой и слабой оказалась Танюшкина ниточка, чтобы удержать на ней строптивый и вздорный характер Степаниды и сложную, кремневую натуру непутевого деда… А теперь еще на мать, глупую бабенку, с кнутом набросился? Как он теперь станет глядеть в чистые, светлые глаза внучки? Опять будет мучиться, как шесть лет назад, когда совершил одно беспутное дело и годами стыдился родным детям в глаза смотреть… Петр Николаевич перебрал в памяти все свои дурные поступки, но страшнее и хуже того не нашел…
Было это лет шесть назад. Вспомнился ему муж Олимпиады Лучевниковой, молодой, кудрявенький, улыбчивый, необстрелянный казак, разорванный японским снарядом в первом же бою. Ехал тогда после ареста Петр домой. Спешил к детям, к жене. С томительной, гнетущей тоской ждал военного суда. Однако вся сотня вступилась за него во главе с новым георгиевским кавалером Захаром Важениным, теперешним станичным писарем. Освободили. Не один он отказался стрелять тогда в рабочую демонстрацию, а целая сотня. Потому и не стали судить их. После тяжелой, постылой царской службы, после кровавой и бесполезной войны жадно потянуло домой, к семье, к плугу. С радостным в горле комом подъезжал к родному дому. Но его никто не встретил… Перекрутил дужку замка и с волнением вошел в прохладную горницу. Надо же было случиться, что дома в тот момент никого не оказалось. Пришла соседка и сказала, что жена вместе с ребятами уехала к Каменному ерику верст за двенадцать бахчу полоть и обещалась заночевать там. Решил было сразу же туда и мчаться, да заявились дружочки, и, как всегда бывает, с бутылками. Выпили, поговорили.
Выпроводив гостей, Петр сводил отдохнувшего коня на реку, вымыл его, искупал, сам с ним поплавал, бодрым и свежим вернулся на двор и собрался ехать к семье. Только что хотел надеть старый мундир, в это время как угорелая в избу с криком вбежала молодая вдовушка Липка Лучевникова. Сказал он тогда соседке, что привез Олимпиаде кое-какие вещички, оставшиеся от погибшего мужа. Нести тотчас же соседка отсоветовала. Там и без того было много горя. Однако, встретив в поле Олимпиаду, соседка все же не, вытерпела и сказала, что вернулся-де Лигостаев и привез то и это… Олимпиада бросила работу и тут же прибежала. Едва успел Петр Николаевич поведать ей печальное о муже известие, как она повалилась, где стояла. Петр поднял сомлевшую вдовушку и уложил на кровать, побежал на кухню, зачерпнул ковш холодной воды, хотел плеснуть на лицо, белевшее в полутьме горницы.
«Не надо. – Вздрагивая от душившей ее спазмы, Олимпиада как безумная схватила его руку, сжала крепко. Трясясь сильным, горячим телом, отрывисто, словно в бреду, заговорила: – Загубили, проклятущие, моего милого, кучерявенького! А как я ждала его, родименького! Целые ноченьки напролет слезы лила и подушку с места на место перекладывала… Руки себе до кровинушки искусала… Господи боже мой! Да разве есть на свете еще другое мучение?»
Петр говорил в утешение какие-то пустые, маловразумительные слова и чувствовал, что не выдержит ее надрывного голоса и живого сердечного трепета.
«Скажи! Есть или нету? Я тебя спрашиваю», – повторяла она жутким, стопущим голосом.
Не находя слов, Петр ошеломленно молчал. Да какие там могли быть слова!.. Не было их. Они удушливо застревали в горле.
Закрыв глаза, перекатывая на подушке совсем разлохматившуюся голову, исступленно шептала:
«Молчишь! А мне что делать? Боже мой! Недолюбила… не дождалась… А тут еще Спиридон проклятый! У-ух! Один конец! В реку или в петлю!»
«Ты с ума спятила!» – вырвалось у него. Он выхватил руку и встряхнул Олимпиаду за плечи. Олимпиада всхлипывала и судорожно корчилась.
«Лучше убей! – трясущимися губами шептала она. – Пойми ты меня… Ведь один только месяц с казаком прожила! Ведь целый год ждала… А свекор, поганец, проходу не дает… Руки на себя наложу!..»
Она вцепилась ему в рукав. Петр почувствовал, что не в силах противиться дольше, и опустил охмелевшую голову на подушку, рядом с ее горячей и мокрой щекой. Забываясь, гладил ее мягкие волосы, пахнущие полевыми травами, да и прозоревал чуть ли не до самого утречка…
А жене-то и ребятишкам кто-то успел рассказать, что вернулся казак из похода домой…
Бахчевники застали его еще в постели, с мокрым на растрепанном чубу полотенцем…
«Миленький! Петенька! Родненький ты наш! Да что же такое с тобой приключилось? Спаси нас Христос!» – выкрикивая и на ходу крестясь, Анна Степановна бросилась к кровати и как подкошенная упала на грудь мужа.
А он и ее так же гладил по обгорелым на солнце волосам и говорил матери своих ребятишек пустые, фальшивые слова:
«Да ничего такого… родная моя… Выпили вчера лишнего… Дружочки пришли… Собрался было к вам скакать, да вот…»
Петр показал помутневшим взглядом на пустые в углу бутылки.
Загорелые, чумазые, выросшие за его отсутствие дети тоже подошли к постели и робко прижались к отцу. А он, хлипко вздыхая, плакал и не мог поднять мокрых, опозоренных глаз…
Ворошить прошлое не было сил… Жизнь показалась ему сейчас настолько гадкой, что он быстро вскочил, дрожащими губами заплевал цигарку и старательно растоптал валенком. Подойдя к стене, сдернул с гвоздя новые вожжи, распустил их на пол, связал калмыцким узлом конец, сделал петлю и перекинул через пыльную, сучкастую перекладину…
За плетнем, на втором дворе, поглядывая на душистые пласты зеленого сена, тоскливо блеяли ненасытные овцы. Жалеючи их, Санька кинул им несколько навильников. Жадно похрустывая, овцы мгновенно пожирали сено до единой былиночки и снова начинали канючить. Погрозив им вилами, Сашок, не теряя времени, перекидал остатки сена на поветь и, впрягшись в оглобли, напрягая все силы, оттащил сани на середину двора. Стянув концы оглобель поперечником, он высоко задрал их кверху, почти на уровень амбарной двери. Стряхнув сенную труху с барашкового воротника, приподнял с вспотевшего лба шапку, любуясь на дела рук своих, мысленно прикидывая, как он возьмется за другой воз и очистит вторые сани… Наступал вечер, за шиханами, закатываясь, пылало яркое ноябрьское солнце. Падал мягкий снежок. У плетня искрились сугробы. Белые гребешки снега все еще строгал ветер. Чтобы подвезти второй воз ближе к повети, нужно было сбегать в амбар за хомутом, снова запрячь лошадь. Санька видел, что в амбар давно зашел дядя Петр и почему-то очень уж долго не возвращается. Начинало заметно подмораживать. Потоптавшись на месте, Санька надел варежки. В сенях визгливо скрипнула дверь. Одетая в новую желтую шубу, на крыльцо вышла Степанида. На ходу кутая ребенка в красное одеяло, направилась к воротам.