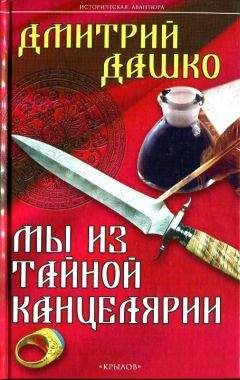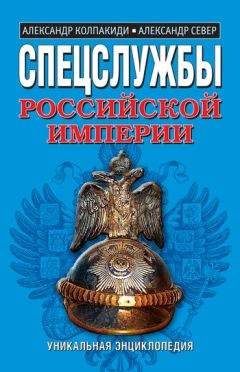Речь Скриба послужила поводом Пушкину для иносказательного объяснения с читателями. Разве на Руси не бичевала песня барскую неправду? Разве не песня величала Степана Разина или Емельяна Пугачева? Разве не родились в народе песни про змея-душителя Аракчеева? Везде и всюду народное искусство рождается в вековечной борьбе с теми, кого назвал Пушкин «господствующею силою». Русские песни, которые перевел он для Лёве-Веймара, убедительно расскажут об этом во Франции.
Статья Пушкина «Российская академия» открывала номер и в свою очередь говорила о предстоящем сражении «Современника» с мракобесами от литературы. В сущности, это был отчет о торжественном собрании Российской академии, состоявшемся еще 18 января 1836 года.
Александр Сергеевич писал в своем отчете:
«…действительный член М. Е. Лобанов занял собрание чтением мнения своего о духе словесности как иностранной, так и отечественной. Мнение сие заслуживает особенного разбора, как по своей сущности, так и по важности места, где оное было произнесено».
Речь действительного члена академии Лобанова давно опубликована в трудах академии. Гонение на новейшую русскую литературу возведено в программную декларацию ученого ареопага. И давно бы надо ответить почтенной академии. Но как ответишь вовремя, когда «Современник» имеет право выходить только четыре раза в год? Пусть хоть знают читатели: бой заявлен, бой состоится!
Это был долгожданный, вожделенный день. Михаил Евстафьевич Лобанов поднялся на кафедру в зале Российской академии и в торжественном собрании прочел свое «Мнение о духе словесности как иностранной, так и отечественной».
И до него выступали ораторы. Но, слушая их, член академии Александр Сергеевич Пушкин изрядно скучал. Вначале он не прислушивался и к «Мнению» Михаила Евстафьевича. Но вот академик Лобанов заглянул в рукопись и, подняв очи, гневно вопросил:
– Ужели истощилось необъятное поприще благородного, назидательного, доброго и возвышенного, что обратились к нелепому, отвратному, омерзительному и даже ненавистному?
Оратор опять заглянул в рукопись и, говоря о писателях Франции, в ужасе воздел руки:
– Самые разрушительные мысли для них не столь заразительны, ибо они давно ознакомились и, так сказать, срослись с ними в ужасах революции…
Но пора было перейти к тем пагубным последствиям зарубежных революций, которые обнаружил Михаил Евстафьевич в отечестве. Неумолимый обвинитель уже не мог скрыть крайнего гнева:
– Всякий благомыслящий русский видит: в теориях наук – сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос несвязанных мыслей; в приговорах литературных, – совершенную безотчетность, бессовестность, наглость и даже буйство… Буйство! – повторил оратор, устремив в пространство обличающий перст. – Приличие, – продолжал он, – уважение, здравый ум отвергнуты, забыты, уничтожены! – Негодование душило Михаила Евстафьевича. Он перевел дух, укрепился силами и продолжал: – Романтизм – слово, до сих пор неопределенное, но слово магическое – сделался для многих эгидою совершенной безотчетливости и литературного сумасбродства…
Было время, когда небезызвестный поэт Пушкин, ныне допущенный в академию, выпустил трагедию «Борис Годунов». О, святые устои драматического искусства, безнаказанно попранные нечестивцем!
Долго трудился академик Лобанов и в прошлом году выпустил наконец собственную трагедию «Борис Годунов». Правда, вынужденный духом времени, многим должен был поступиться творец трагедии. Но как зато каялся в совершённом злодеянии преступный царь Борис! Как красноречива была его покаянная речь перед собственной супругой! Воистину обратился академик Лобанов к возвышенному и назидательному – и что же? Встретил всеобщее равнодушие и хулу. О, времена, о, нравы!
А некий критик, преданный буйству, написал о бессмертном создании бессмертного Михаила Евстафьевича:
«…грустно видеть человека, может быть, с умом, с образованностью, но заматоревшего в устаревших понятиях и застигнутого потоком новых мнений! Он трудится честно, добросовестно, а над ним смеются; он никого не понимает, и его никто не понимает. Не могу представить себе ужаснейшего положения!..»
Михаил Евстафьевич Лобанов заболел тогда огорченным самолюбием. Но теперь настал день отмщения.
Он стоит на кафедре Российской академии и, как живого, видит критика-разбойника, даром что укрылся разбойник в Москве. Он не называет фамилии этого критика, но наверняка можно сказать про него, что длинноволос и грязен; нет сомнения – носит нож за пазухой; само собой разумеется – снял с шеи крест, богохульник!
– Критика, – продолжает академик Лобанов, – сия кроткая и добросовестная подруга словесности, ныне обратилась в площадное гаерство, в литературное пиратство, в способ добывать себе поживу у кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками, нередко даже против мужей государственных, знаменитых и гражданскими и литературными заслугами…
Пушкин прислушался. Нельзя было не узнать, в кого метит государственный муж академик Лобанов. Рецензия Виссариона Белинского легла надгробной плитой на его трагедию «Борис Годунов».
И вот Михаил Евстафьевич наконец отмстил! Отмстил публично, торжественно, в высоком собрании. В заключение оратор призвал всех членов академии «неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло, где бы оно ни встретилось на поприще словесности».
Автор воинствующего «Мнения» закончил свое выступление под сочувственные возгласы академиков. Но, боже, как давно это было!
Редактор-издатель «Современника» готовит отповедь Лобанову и всем тем, кто стоит за его спиной. Но только в октябре, не раньше, чем выйдет третий номер журнала, читатели прочтут эту пушкинскую статью. Возникает очевидное несоответствие между намерениями редактора-издателя «Современника» и предоставленными ему властью возможностями. Пушкин хочет сделать журнал зеркалом жизни, откликаться на важнейшие злобы дня. А власти, разрешившие поэту поквартальное литературное обозрение, предоставляют ему горькое право быть опаздывающим гласом вопиющего в пустыне и притом с прямым запретом каких-либо общих политических статей.
Сколько же нужно изобретательности, чтобы превратить в этих условиях редко выходящее литературное обозрение в журнал, который ответит чаяниям и ожиданиям читателей! А читателям нет никакого дела до тех непреодолимых барьеров, которые поставлены перед поэтом, взявшимся за труд журналиста.
Многих возмутило в свое время «Мнение» давно отпетого жизнью покойника Михаила Евстафьевича Лобанова. Жив, оказывается, курилка! Но не он один торопится похоронить новую русскую литературу. Академик Лобанов чутко отражает мысли министра народного просвещения Уварова. За ним идет Российская академия. По его команде скрипят в новом припадке бешенства продажные, насквозь проржавевшие перья.
Александр Сергеевич Пушкин, оказывается, еще только сулится особо рассмотреть «Мнение» Лобанова. Но кто же ходит в лес по малину спустя лето?..
Сколько бы ни работал Пушкин, «Современнику» суждено отставать от жизни. Между тем журнал отвлекал поэта от всех других дел.
По обычаю, Пушкин не проходил мимо книжных лавок и с усердием рылся на развалах у букинистов. Однажды принес книгу ученого Эйхгофа, недавно вышедшую в Париже: «Параллель языков Европы и Индии, или изучение главных языков романских, германских, славянских и кельтических в их сопоставлении друг с другом и с языком санскритским».
Покупка сочинения Эйхгофа была связана с давним замыслом Пушкина: дать русским людям критический перевод бессмертного памятника древней русской поэзии – «Слова о полку Игореве».
Для этого собраны и словари славянских языков. Годы ушли на кропотливый труд – розыск в братских языках корней тех слов, которые, выйдя из употребления на Руси, остаются темными в тексте «Слова» для современного читателя.
Если бы сердечное спокойствие! Не пощадил бы трудов Александр Сергеевич, чтобы вернуть родине во всей поэтической глубине вдохновенное «Слово», родившееся у колыбели Руси.
А сердечного спокойствия так и не было. Когда оставался в городе, постоянно тянуло на дачу. Будучи на даче, вдруг собирался и уходил в город.
В кабинете Пушкина стоит заветный ларец. Оторвавшись от занятий, Александр Сергеевич приподнимает крышку и перебирает рукописи, не увидевшие света. Третий год покоится здесь поэма «Медный всадник».
На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел…
Пушкин перелистывал рукопись, испещренную собственноручными пометками державного цензора. Беспощадной рукой Николая Павловича расставлены на полях вопросительные знаки, запретительные росчерки. Царь перечеркнул все строки о тяжелозвонком скакании медного всадника. Царственный карандаш грубо нарушил мысль, поэтический строй и музыкальное течение поэмы.