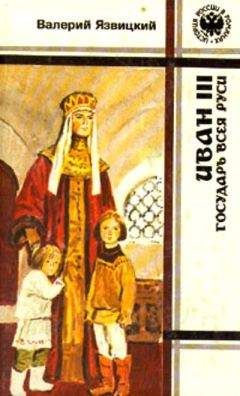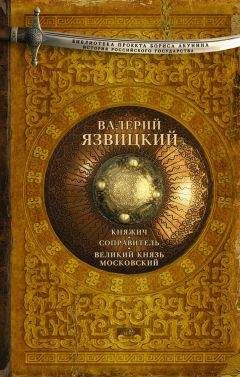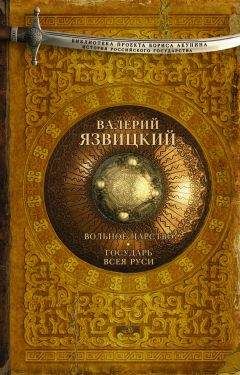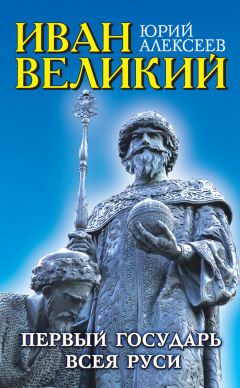— Не при на рожон, государь мой, — начал вкрадчиво дьяк, — лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то…
У Шемяки ноздри раздулись, побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка:
— Не учи сороку вприсядку плясать!..
Но Федор Александрович не испугался, знал князя своего, недаром любимцем был.
— Ин по-твоему быть, государь, а о пляске ты ко времю напомнил.
Поедем ко мне, вдовцу веселому, хлеба-соли покушать, лебедя порушить…
Он нагнулся к Шемяке и громким шепотом добавил:
— А там поплясать да белых лебедушек поимать. Новая плясовая есть!
Вдосталь попляшем. Да и гость наш, хошь женатой, а на чужой стороне — все равно что вдовой, а девок да молодиц всем хватит…
Он обвел молодых князей смеющимися, такими разгульными глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку:
— За лебедушку белую, за любу твою Акулинушку выпьем!
Шемяка улыбнулся, чаще задышал и вялый Иван Андреевич — знал, по греху, и он про хоромы Дубенского, что тот себе построил, а от других про это таили. От княгини своей Акулинушку прячет там Шемяка. Совестно князю — сыну Ивану уже восьмой год пошел…
— Змей-искуситель, — шутит, развеселившись, Димитрий Юрьевич, — во ад тропку мне пролагаешь…
— И-и, государь мой, — усмехнулся Федор Александрович, — обоим вам по двадцать пять, а мне без малое одному столь, сколько вам вместе, а и то не тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще знай!..
В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло — солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям розоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у красного крыльца встречали и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий убор. Не для гостей она строилась, а только для князя да хозяина, да для люб их.
Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили.
Как князья ни отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолил.
Выпили снова и журавля жареного с мочеными яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька, да Акулинушка, да еще Настасьюшка, что прошлый раз приглянулась тучному Ивану Андреевичу. Все три молодицы-хозяйки сами и стол накрывали и сами гостям за столом служили.
Димитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали — заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил:
— Спой-ка, любушка, песню, а какую — сама выбери.
Акулинушка вскинула на него свои русалочьи прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжкой истомой:
Эко сердце, эко бедно… бедное мое,
Ах, да полно, сердце, во мне ныти, изнывать!..
Словно замерло все в хоромах, и, гуще багровея, заря огнем в слюдяных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизях уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная да горючая, жгучая. Опустили все головы, а у Грушеньки да Настасьюшки слезы в глазах…
Вдруг смолкла, не допев, Акулинушка. Взглянула в посеревшее лицо Димитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все, еще слова вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная знойная ночь, ожгла всех хоровой песней:
— Уж вы, но… уж вы, ноче-ни-ки, вы но-чи-те!
— Ух! — будто враз опьянев, воскликнул Федор Александрович, и все хором подхватили горячую, хмельную песню.
Затопали под столом ногами, зашевелили плечами, и первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою Грушеньку.
Серой утицей поплыла к нему Грушенька, помахивая белым шитым платочком. Не утерпел и князь Иван Андреевич, пошел на манку Настасьюшки, словно голубь за голубкою, зачастил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую грудь Акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит, да звенит и гудит в груди сладостный голос, пьянит и баюкает, тоску его усыпляя.
Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола.
— Гости дорогие, — громко приглашал он, — напоследочек в «колобок» поиграем с пенями!..[42]
Поставили пять стольцев среди горницы. Пятеро сели, а шестая, Акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно:
Клубок — тоне, тоне,
Нитка тянется…
Первым, встав, взял ее за руку Шемяка, потом Грушенька, за ней — Федор Александрович, за ним Настасьюшка и князь Иван Андреевич.
Образовался хоровод и быстро закружился, а Акулинушка запела:
Клубок — тоне, тоне,
Нитка — доле, доле!..
Хоровод закружился еще быстрей и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась…
Снова запела Акулинушка:
Я за ниточку взялась,
Моя нитка порвалась!..
При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хоровода, который мгновенно рассыпался. Все сели на стольцы, только Настасьюшка не поспела и осталась среди горницы.
— Пеню, пеню! — закричала Грушенька.
— Пусть поцелует кого захочет, — крикнул, смеясь, дьяк.
— Меня поцелуй, Настасьюшка, — при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич.
Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось.
— Медведем ему быть! — весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью.
— Ладно, — проревел дьяк, становясь на четвереньки.
Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно подогнув колени. Схватив ее передними лапами, поднял, как перышко, и понес к себе в опочивальню.
В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь:
— Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят… — Потом, подмигнув, добавил: — А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то дороженьки…
Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Димитрия Юрьевича за шею, впилась устами в уста, не отрывая русалочьих глаз, задохнулась совсем. Сжал ее в объятьях Шемяка, сам целуя ей щеки, шею и плечи, и снова сливая уста с устами.
— Люба ты, люба моя, — шептал он страстно, — свет мой Акулинушка…
Вдруг она отстранилась:
— А вот опостылю тобе, как княгиня твоя…
Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди. Акулинушка вздохнула и пропела ему вполголоса:
Буде лучше меня найдешь — позабудешь,
Буде хуже меня найдешь — воспомянешь…
На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Димитрия Юрьевича, и всполошились все в хоромах, по всем углам суета началась.
Сразу всем стало известно, что в Галич приехал из ханского яртаула[43] Бегич, посол Улу-Махмета.
Князьям подали коней. Торопливо позавтракав, чем бог послал, Димитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским к Галичу, стольному граду Мерьской земли.
— Ты, господине, покоен будь, — говорил Шемяке дьяк, идя на рысях бок о бок с княжим конем. — Боярин Никита знает, как посла приветить, на Москве ведь жил, а посол-то нам, словно божий дар, с самого неба упал…
Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул:
— Теперь Василей-то треснет, как гнида под ногтем!..
Когда князья и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хором, застали там они уже стол да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали — боярин Никита Константинович угощал посла улу-махметова с почетом великим и лаской. Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей и везде был, как дома. Знал изрядно по-русски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров.