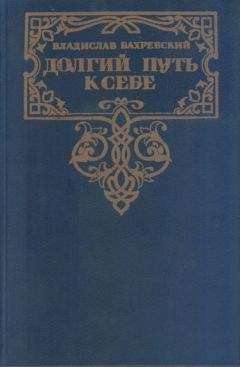Пощады никому не было. Ни тому, кто сопротивлялся, ни тому, кто бросил оружие.
Богун, объезжая мертвое поле победы, направил коня к зарубленному молодому мурзе, но в последнее мгновение дал шпоры и проскакал мимо. Он узнал убитого. Это был Иса-бей — названый брат Тимоша Хмельницкого, татарчонок, живший в доме Богдана в Суботове, сын ширинского Тугай-бея, победитель Батога.
— Вот чего нам стоит союз с волками! — крикнул Богун, тыча одной рукой на освобожденный полон, а другою — на убитых казаков, которых собирали с поля, чтоб отслужить над ними молебен и похоронить.
1
Московские послы — ближний стольник Родион Матвеевич Стрешнев да дьяк Мартемьян Бредихин, отправленные к Хмельницкому с грамотами и жалованьем еще 12 сентября, зажившись в Чигирине, поехали-таки искать гетмана с его войском, но в городе Ольшановке им было сказано, чтоб поворачивали обратно. Гетман возвращается в Чигирин.
В трех верстах от Чигирина их встретил генеральный писарь Иван Выговский, который воротился из похода раньше гетмана.
Выговский рассказал московским послам о Жванецком договоре между королем и ханом, а послы ему сообщили, что великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии самодержец жалует его, писаря, своим государевым жалованьем: четырьмя сороками соболей добрых, а жалованье это послы подадут ему у гетмана во время чтения грамот.
Иван Выговский нижайше благодарил за государеву милость, но просил послов дать ему при гетмане жалованье небольшое.
— У великого государя в Москве послы гетмана слышали про меня многие похвальные слова, и гетман за то на меня осердился. Потому царское жалованье дайте мне тайно и слов про меня похвальных при гетмане, Богом молю, не говорите.
Богдан Хмельницкий вернулся в Чигирин вечером 25 декабря и тотчас прислал к послам Выговского спросить о здоровье, и звать их назавтра к себе с царской грамотою.
Послы вернули Выговскому две турецкие грамоты, которые он отправлял в Москву тайно, и дали ему жалованье.
Наутро послов звали на обед к гетману все тот же Иван Выговский, брат его Данила, а с ними тридцать казаков. Гетман прислал шестерых коней — три турецких, три ногайских — послам и посольским людям в подарок.
Все царское жалованье гетману дано было соболями: сорок соболей в двести рублей сорок, сорок соболей — в сто пятьдесят, сорок соболей — в сто двадцать, сорок соболей — по сто рублей, сорок соболей — по девяносто, сорок соболей — по восемьдесят, сорок соболей — по семьдесят, два сорока — по шестьдесят и сорок соболей — по пятидесяти рублей за сорок. Юрию, сыну гетмана, дадено было сорок соболей по пятьдесят рублей, жене гетмана — столько же и еще пятнадцать сороков соболей сорокарублевых для раздачи полковникам и старшине. Ивану Выговскому при гетмане дали пять пар восьмидесятирублевых соболей.
И потом гетман, Выговский и послы закрылись в отдельной комнате, и послы сказали:
— Великий государь наш царь и великий князь Алексей Михайлович всея Русии самодержец его царское величество тебя, гетмана, и все Войско Запорожское за то, что вы за православную христианскую веру и за святые Божие церкви стоите крепко, безо всякие шатности, и от царского величества милости не отступаете, пожаловал — велел вас с городами вашими и с землями принять под свою царского величества высокую руку. А для того приниманья посылает боярина своего и наместника тверского Василия Васильевича Бутурлина да окольничаго наместника муромского Ивана Васильевича Олферьева да думного дьяка Лариона Лопухина. А о ратных людях — сколько вам на помощь послать — от царского величества указ будет вскоре.
Гетман и писарь, выслушав речь, ударили царским послам челом, и Хмельницкий сказал в ответ:
— Радуемся, что Господь Бог помиловал нас, а великий государь наш, его царское величество нас пожаловал, велел нас принять под свою государеву высокую руку.
И, поговорив о делах, гетман пошел с послами за стол и первую чашу пил за царское многолетнее здоровье. И как чашу выпил, стрельнула пушка, а гетман молил Бога:
— Дай, Господи, чтоб здоров был великий государь наш царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Русии самодержец, на своих великих преславных государствах Российского царствия и которые ему, великому государю, его царскому величеству ныне Бог предает.
Послы, совершив свое дело, готовы были хоть наутро отправиться в Москву, но вечером им сказали: гетман завтра в Суботов едет по своим делам, а отпуск послам будет 28 декабря.
2
Вот и встретились Тимош и Богдан.
— Прости меня, сын! То не я на помощь тебе не поспешал, то судьба встала между нами.
Снежное лицо сына, устремленное в бесконечность, было прекрасным, да только красота эта для жизни была негодной.
— Сыночек! — опускаясь на колени, шепнул Богдан непривычное для себя, неказачье слово: в суровости казаки детей своих растят.
Поклонился отец сыну — горек и безутешен был тот поклон.
— Я два дня уж как в Чигирине, — попробовал Богдан объясниться. — Мор по Суботову прошел. Пока дымом все окурили, сам понимаешь… Ну, теперь спокоен будешь. Не мог я отпустить тебя, в лицо тебе не поглядев. Спи, сын! Да уж и недалек тот день, когда встретимся.
Богдан встал, дал знак священнику, чтоб начинали последний обряд.
3
На следующий день был отпуск послам. Стрешневу гетман прислал в подарок лошадь, лук и деньгами — шестьдесят четыре ефимка, Бредихину — лошадь, лук и сорок один ефимок.
Со знаменем, трубою и литаврами московских послов провожали Юрий Хмельницкий, Иван Выговский и с полсотни казаков. Версты три провожали.
Переправились послы через Днепр в городе Бужине 31 декабря. На целый день в Бужине задержались, по Днепру шел большой лед. Река готовилась стать на зиму.
В пространном отчете о посольстве Стрешнева-Бредихина есть и такая запись: «А что послано государева жалованья гетманову большому сыну Тимофею Хмельницкому два сорока соболей по пятьдесят рублей сорок да жене его Тимофеевой сорок в пятьдесят рублев, и те соболи гетману не даны, для того что сына его Тимофея в Сучаве не стало, а жены Тимофеевой в Чигирине нет».
Роксанда встретила тело мужа, оплакала свою судьбу и в тот же день отправила к Богдану Хмельницкому своего человека, прося гетмана отпустить ее домой.
Да только где теперь был дом ее? В Яссах сидел Стефан Георгий, свергший с престола отца, убивший мужа, ошельмовавший брата… Чигирин для Роксанды тоже не стал домом родным.
Богдан Хмельницкий задерживать невестку против воли ее не захотел. Он дал ей в управление город Рашков, и Роксанда, получив универсал гетмана, тотчас собралась и уехала с детьми и со всем своим двором проливать свои вдовьи слезы в быстрый Днестр.
Через шесть лет после гибели Тимоша, в 1659 году, престол Молдавии занял брат Роксанды Стефан Лупу. Он послал за сестрой, но казаки прогнали молдаван от Рашкова.
Позже Роксанде удалось переселиться в Молдавию. Там она и погибла вместе с внуками Богдана. Бродячая шайка казаков разграбила ее дом, а всех его обитателей вырезала.
Памятью о Тимоше и Роксанде осталась в Яссах построенная на их деньги церковь Фурмос, что значит «красивая».
4
Старик Квач, бывший человек пани Мыльской, а ныне вроде бы и вольный казак, проснувшись поутру, поставил под образами дубовую лавку и лег помирать.
— Зачем жить, если нет ее — жизни! — сказал он своей старухе.
«День мой — век мой» — для удалого казака хорошая присказка, а для поселянина никуда не годная. Поселянин живет ожиданием, все время наперед заглядывая да загадывая. Зимой весны ждет, чтобы поле вспахать. Весною — лета, каким хлеб уродится. Летом — осени: у осени на все крестьянские загадки отгадка. Да и не в том ли тайна жизни, что люди лучшего от нее ждут. Но когда год от года перемены нет, когда стоит у ворот, не уходя, как бык приблудный, война, ждать нечего.
— Разлегся! — зашумела старуха на Квача, и он покорно поднялся с лавки, ушел за печь и затих.
Старуха, бодро повозясь у печи, понесла пойло свинье, задала корму корове, лошади. Курей кормила, гусей. Забыла в делах про деда. Вспомнила, когда завтрак собирать время пришло.
— Старик! — окликнула она Квача. — Есть иди.
Квач не откликнулся, и старуха, перехватив воздуху, замерла, слушая, как там ворохается за печью ее причудливый дед. За печью было тихо.
На цыпочках старуха подкралась к занавеске и отогнула уголок. Квач лежал комочком, сухонький, изжившийся, как отпавший от дерева лист. Устремив глаза в потолок, дед пребывал в такой тоске и неустройстве, что старуха подумала, грешным делом: «Не жилец».
Боясь нашуметь, все так же на цыпочках, отошла на середину хаты и тогда только сердито и громко зашумела: