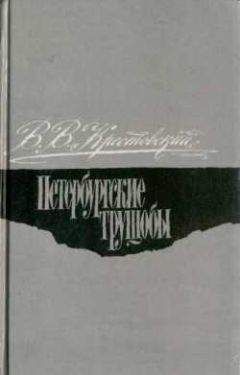Часто на этой могиле встречался он с Анной, но каждый раз робко и торопливо поднимался с места и шел себе бродить по кладбищу, как только завидит, бывало, ее приближающуюся фигуру. И бродил он таким образом все время, пока та оставалась у дочери, выслеживая издали, скоро ли она уйдет, и чуть лишь Анна удалялась, бедняк опять возвращался на свое место.
Та, наконец, не могла не заметить этого странного гостя своей покойницы. Она видела его бесконечно грустное, симпатичное лицо, а женский инстинкт подсказал ей в нем не злого человека. Еще не зная, кто он таков, Анна уже втайне расположилась к нему сердцем за эту, пока непонятную для нее, верность одной и той же могиле. И захотелось ей, наконец, узнать и допытаться, что это за человек, и зачем с таким постоянством и так грустно сидит он всегда на этом месте, почтительно удаляясь при ее появлении, и какое именно побуждение приводит его сюда почти ежедневно.
Однажды он до того уже погрузился в свои грезы, что и не заметил, как подошла к нему княгиня Анна, и только тогда очнулся и пришел в себя, когда та дотронулась тихо до его плеча.
Они заговорили. Ни той, ни другому нечего было скрываться друг перед другом, потому что оба слишком были просты и честны, и на душе у обоих лежала одна и та же любовь, тяготело одно и то же горе. Слово за слово, их откровенный разговор мало-помалу дошел, наконец, до того, что оба открыли друг другу, какие чувства и побуждения сводят их на этой могиле. Вересов, между прочим, упомянул Анне и про известную сцену в Малиннике, и после этого рассказа Чуха вспомнила и признала его. Общая кручина по общей потере обоюдно слила их души в одну доверчивую теплую струю и с первого же раза сделала добрыми друзьями.
С тех пор каждый день проводили они вместе по нескольку часов на кладбище.
Но однажды, посетив могилу своей дочери, княгиня Анна не нашла там Вересова. Удивленная таким обстоятельством, – потому что молодой человек постоянно являлся раньше ее, – она на этот раз напрасно прождала своего нового друга. Он не явился. По возвращении же домой к своему брату старуха несказанно была поражена, прочтя письмо, полученное в ее отсутствие:
«В государственном банке, – говорилось в этом письме, – на ваше имя положено двадцать пять тысяч серебром. Простите мне мой самовольный поступок и во имя вашей покойной дочери не откажитесь от этих денег. Я желаю, чтобы вы поставили над нею хороший памятник и сами наняли себе дом недалеко от кладбища (это всегда было и вашим желанием), чтобы чаще быть с нею. Эта сумма обеспечит вас до конца жизни. Не покидайте могилы вашей дочери, навещайте ее чаще и чаще и молитесь как за нее, так и за вашего покойного друга
Ивана Вересова».
А через сутки полицейская газета в «Дневнике приключений» заявила, что такой-то части, такого-то квартала, в доме под № таким-то, в ночь на такое-то число сего месяца застрелился санкт-петербургский мещанин Иван Осипов Вересов.
Все достояние отца своего, за несколько дней до смерти, он разделил по разным благотворительным учреждениям и большую часть пожертвовал на школы да на детские приюты. Мебель и все вещи двух Машиных комнат были распроданы, а вырученная сумма пошла, как и прочие деньги, на доброе дело. Сам же он умер таким голым нищим, каким прожил и всю свою жизнь, так что полиция должна была хоронить его на казенный счет.
На седьмой версте от Петербурга, близ Царскосельской железной дороги, находится одно странное кладбище, которое официально называется «показанным местом».
На этом «показанном месте» зарывают дохлую падаль и хоронят самоубийц. Богатые баре часто погребают тут и своих любимых коней и собак. Над бренными останками некоторых из последних вы можете видеть даже мавзолеи с приличными эпитафиями. Над самоубийцами же мавзолеев не полагается. Один только скромный бугорок земляной насыпи, без креста и камня, безмолвно свидетельствует вам о чем-то, зарытом тут, – может быть, о человеке, а может, и о какой-нибудь дохлятине.
Для исторической полноты мы могли бы прибавить, что некогда на этом самом «показанном месте» была погребена дивная левретка Лесли, любимая собачка покойной княгини Татьяны Львовны Шадурской, по которой она долго плакала и которой воздвигла даже приличный мавзолей. А в нескольких саженях от этого самого мавзолея плешивый бугорок скрыл под собою простреленное тело ее сына, Ивана Вересова. Над ним никто не поставил мавзолея и никто не заплакал, потому что никому не было дела ни до его жизни, ни до его смерти. Одна только безобразная Чуха с благодарностью вспоминала имя раба божия Иоанна и в теплой молитве просила господа о безмятежном упокоении души его там, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
XLVI
КАК ИНОГДА МОЖНО ЛОВКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
1861 год был уже на исходе. Последние месяцы его ознаменовались студенческими беспорядками. Почти одновременно с ними в разных местах нашего обширного отечества проявилась тайная революционная пропаганда. Во всех кружках, во всех гостиных только и толковали об этой пропаганде. На устах у всех и каждого то и дело вертелись слова «Великоросс», «Молодая Россия»… Время казалось тревожным. Все напряженно ожидали чего-то. Чего именно? – едва ли бы кто мог определить положительным словом. Сделано было несколько обысков и арестов, которые повторялись довольно часто.
Но что подумает мой читатель, если я скажу, что фактом этих арестов очень ловко задумал воспользоваться наш старый знакомый, Иван Иванович Зеленьков? Он составил себе подходящую компанию из пяти членов, в числе которых находился и другой наш знакомец, Лука Летучий. Мысль Ивана Ивановича оказалась довольно остроумна и как нельзя более приноровлена ко времени. В чем заключалась его хитрая выдумка – читатель увидит из нижеследующего рассказа.
Приехал в Петербург некто господин Белкин, молодой и довольно богатый помещик одной из наших средних, сердцевинных губерний. Человек он был достаточный, женился месяца два тому назад и вознамерился весело провести с молодой женой зимний сезон в Петербурге. Хотя этот год был для помещиков одним из самых притужных, тем не менее Белкину хотелось пожить в полное свое удовольствие, потому что деньга у него на сей раз водилась: кроме своего собственного состояния пришелся ему и за женою довольно круглый кушик. В Петербурге давно он не бывал, от столичных порядков успел поотвыкнуть, а меж тем смутное тогдашнее время и его занимало, точно так же, как всех и каждого; к тому же он порою непрочь был изобразить из себя либерального проприетера и любил «отдавать справедливость» «Колоколу».
По приезде в Петербург подыскал он себе очень приличную квартиру, которая на время передавалась со всею мебелью, по случаю отъезда за границу настоящих хозяев Белкин устроился, завел хорошего повара, приличного лакея с белым галстуком и филейными перчатками, подрядил помесячно приличный экипаж, абонировался на ложу в итальянской опере, и зажил со своею супругою «в полное свое удовольствие».
Однажды, возвратясь с нею из театра, господин Белкин по-английски накушался чаю и отошел к своему мирному, безмятежному сну вполне довольный
…сам собой,
Своим обедом и женой.
Вдруг часу в третьем ночи у парадной двери его квартиры раздается громкий звонок. Господин Белкин даже и сквозь сон-то не слышал его, потому что започивал уж очень крепко и сладостно. Однако вскоре после этого звонка в спальную прокралась горничная и тихо разбудила его, объявляя с испуганным и каким-то растерянным видом, что в зале дожидаются его какие-то военные господа, чуть не полицейские, которые требовали, чтобы он немедленно был разбужен и поднят с постели.
Екнуло-таки сердчишко у господина Белкина. Хотя никаких таких дел и провинностей за собою он не чувствовал, но время было смутное, обыски и аресты довольно часты, – чем черт не шутит, и «как знать, чего не знаешь!.. Может быть, и ты, друг любезный, мог показаться чем-нибудь подозрительным, а может быть, на тебя кто-нибудь из старых провинциальных врагов ловкий доносец сумел состряпать…» Жутко вспомнилось тут господину Белкину и свое собственное модно-красивое либеральничание, и это – черт бы его драл!.. «отдавание справедливости» «Колоколу». Вспомнилось, что на днях даже некто показывал ему, в одной очень порядочной гостиной, затасканный листок «Великоросса», который он прочел тут же собственными глазами, и даже пустился по поводу его в очень либеральное суждение, кое в чем не соглашаясь и кое-что одобряя.
Струсил сердечный в эту критическую минуту, струсил от шиворота до пяток, и – ох! – как пожалел о своем красивом либерализме, и тысячу раз послал ко всем чертям все эти «Колокола», «Великороссы», и прочее и прочее.
Весь бледный, растерянный, лихорадочно щелкая зубами барабанную дробь, торопливо напялил он на себя халат, и на цыпочках вышел из спальной, в страхе, как бы еще не потревожить спящую подругу счастливых дней своих.