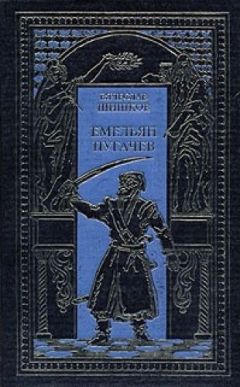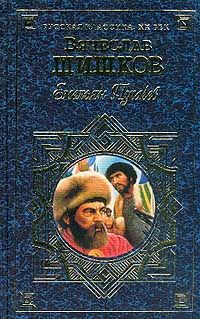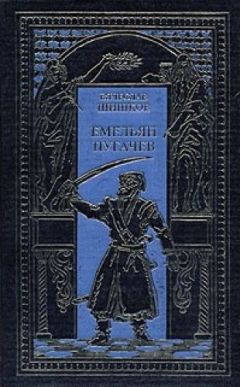Встречаясь в корчмах, банях, а то где-нибудь за городом, в лесочке, сезонники говорили:
— Наперло нас со всей России дворцы да палаты им, гадам, строить. А нам-то какая корысть? Ни с чем сюда пришли, ни с чем и домой вернемся.
— До царицы не допущают, вот что ты толкуй.
— Кабы велела, так допустили бы, беспременно бы допустили. Это она сама препон кладет.
— Видать, страшится мужиков-то…
— Вестимо, страшится. От мужика чижолый дух идет, а она, толстомясая, приобыкла с гвардией гулять… Чаи, кофеи, пампушки…
— Третий ампиратор, Петр Федорыч, этак-то не делывал. Он мужика берег, а гвардию-то, слыхать было, по шерсти не гладил.
— Вот за это самое Орловы графья, жеребчики-то матушкины, и повалили его.
— Пойдемте-ка, братцы, всем скопом в Александро-Невский монастырь панихиду по нем, по батюшке, служить пред гробом его.
— Эх, и дураки вы, братцы! — прозвенел надсадный, с хитрой подковыркой, голос. — Да нешто по живому панихиду служат?
— А и верно! — спохватились мужики. — Есть слых, быдто жив-невредим он, батюшка наш.
— Есть, есть, мужики… Эвот анадысь какой-то старичок-солдатик на работе к нам подсел да сказывал, что-де…
И зачались, и потекли из уст разные были-небылицы, слухи, домыслы, общий смысл которых: «Император Петр III жив, скрывается до поры в народе».
Но никто еще в столице путем не знал о суровых событиях, начавшихся на Яике.
Глава III
Гроза надвинулась. «Встань, сержант!..» Первые казни
В Яицком городке, возле палат коменданта, резко бил барабан. Это означало: офицерам и старшинам немедленно собраться в комендантскую канцелярию.
Было 19 сентября 1773 года. Семь часов утра. Косые лучи осеннего солнца пронизывали кисейные занавески на окнах, ложились по крашеному полу золотистыми квадратами. В одном из таких квадратов сидел четырехлетний голоногий мальчик в одной исподней рубашонке[84]. Толстощекий, пышненький, он лепил из хлебного мякиша солдатиков и лошадок. Возле него стояло на полу блюдце со сметаной. Мальчик попыхтит, попыхтит, да и лизнет сметанки.
— Барабан… чу, барабан, батенька! — прокартавил он и, бросив мякиш, посмотрел на отца снизу вверх.
— Да, брат Ваня, барабан, — сказал отец и заторопился. — Давай, давай, мать!
Это Андрей Прохорыч Крылов, капитан. Он плотный, короткошеий, в темной рубахе с расстегнутым воротом и босиком. Волосы белокурые, длинные; он заплетает их в косичку с бантом, как положено артикулом.
— Черт бы их драл-то! Пожрать не дадут! — брюзжал он, отодвигая от себя сковородку с недоеденной жареной рыбой.
Из-за перегородки, где топилась русская печь, стремительно вышла смуглая, раскрасневшаяся у печки капитанша и поставила перед мужем кучу горячих пряженчиков на оловянной тарелке, а следом за ней девочка-калмычка несла в глиняной кружке чай, вскипяченный в чугунке.
— Полно-ка, не торопись! Не на пожар, успеешь, — сказала капитанша мужу и велела девчонке принести из спальни шпагу, мундир и сапоги капитана.
Вслед за девчонкой бросился и Ваня. Он притащил отцу шляпу, широкую шелковую опояску и офицерский знак.
Андрей Прохорыч смачно жевал сдобные пряженчики, посматривая через окно на улицу. По пыльной дороге шагал, как цапля, долговязый сержант, за ним, застегивая на ходу мундир, поспешал кривой старшина. В церкви наискосок благовестили к ранней обедне.
— Батенька, не ходи на улку, — сказал Ваня. Он стоял у стола, положив подбородок на столешницу, нос и щеки у него в сметане. Захлебываясь и стараясь подобрать слова, мальчик лепетал: — Там, батенька, Пугач… У-у, какой… Страшный-престрашный!
— Ты чего это разболтался?.. Какой такой Пугач?
— Царь это.
— Ах ты дурак этакий, ососок!.. Вот погоди, я те дам царя… Мать, умой его да подай-ка сюда плетку…
Ваня взглянул на хмурое лицо отца, сорвался с места и прытко удрал через сенцы в спальню. Он плетки не боялся, его всегда стращают, а не бьют. Он пуще всего не любил умываться, особливо с мылом… Ой, ты! Глаза больно щиплет. Нет, уж лучше под кровать залезть, там и притаиться: поищут-поищут да и плюнут. Нет уж, пусть сами умываются, а я еще маленький!
Вошел денщик, старый хромой солдат с косичкой, под мышкой щетка, в руках начищенные, в заплатах, сапоги.
— Ну, что слышно, Семеныч? — спросил денщика Крылов.
— Идет, ваше благородие… В окрестностях показался, — натягивая на барина сапоги, зашамкал Семеныч. — Еще утресь, до зорьки, бекетчики наши на сопке солому жгли, знак давали, — стало, идет злодей, идет нечистая сила…
— Ха! А мы-то ищем по степу целый месяц. Слых есть, а где он, неумытая образина, поди знай… Из казачишек клещами не вытянешь. А вот оказывается, что он и сам идет. Да полно, не врут ли?
— Пошто врут! Истинная правда, ваше благородие. Вчерась трое калмычишек на базар прискакали, бучу подняли: «Айда царю встречу, бачка-осударь войной прет!»
— Пускай прет, не шибко-то испугаемся: ворота на запор да и к пушкам… А ты, старый болтун, помалкивай, — рассеянно сказал Крылов и, наскоро перекрестившись, вышел на улицу.
Проводив барина, Семеныч потоптался, спросил хозяйку:
— А как же с базаром-то? Идти ли, нет ли?
Капитанша подхватила с лавки корзину.
— Иди, иди. Мяса купишь, осетринки. Да штоф красного уксуса не забудь, — и дала ему на покупку двадцать копеек медью. — Смотри, поскорей приходи… Чегой-то боязно…
— Да не страшись, матушка… У нас сила, а у него чего? Только бы поближе подманить окаянного. Враз схватим!
Денщик ушел, и капитанша опустилась в камышовое кресло и, страдальчески сложив брови, устремила растерянный взор в передний угол, где полочка с дешевыми, покрытыми фольгой иконами, с черствой просвиркой и пучком вербы от «страстей Господних». Сердце женщины замирало.
— Матушка-Богородица, отведи грозу, спаси, помилуй воина Андрея да младенца Ивана, — шептала она.
— Ну, кого же тебе, старшина, в помощь дать? — обращаясь к кривому Окутину, говорил комендант Яицкой крепости, полковник Симонов. — Ну, скажем… Крылова, капитана… Да вот он и сам легок на помине… Поздненько, поздненько, барин. У нас горячка, а ты…
— Винюсь, господин полковник. Не чаял столь ранней тревоги, — вытянулся посреди канцелярии Крылов.
— Ладно, садись.
Широкоплечий, коренастый Крылов неуклюже уселся рядом с молодым сержантом за длинный, накрытый красным сукном стол. Возле подтянутого, узкоплечего и сухого Симонова устроился толстый, лохматый, брыластый, с опухшими от пьянства глазами войсковой старшина — полковник Мартемьян Бородин. Он дышал тяжело и подремывал: вчера всю ночь прогулял у кума на крестинах. По другую руку Симонова сидел хмурый секунд-майор Наумов. Остальные офицеры и младшие старшины — кто за столом, кто возле стен, на обитых сукном лавках.
С простенка меж окон глядела на всех улыбчивая Екатерина в золоченой раме.
— Стало, ты, господин Окутин, забрав конных казаков с сотню али больше, выйдешь в поле вместе с отрядом секунд-майора Наумова, в коем отряде быть двум либо трем некомплектным ротам пехоты, — отчетливо говорил Симонов. — Приказываю изыскать способ злодея схватить, толпу разогнать. А как настроение казаков?
— Сумнительное, господин полковник.
— Старайся в отряд набирать казаков, к службе нерадивых, образом мыслей вольных. У меня особой надежды на них нет. Ежели и передадутся злодею, жалеть не буду, без них воздух чище станет. А старшинской стороны казаков покамест не тревожь, они нам пригодятся: еще неизвестно, как обернется дело-то. С Богом, Окутин!.. Не зевай, гляди в оба! — закончил Симонов и, посмотрев в одноглазое лицо Окутина, смутился.
Обиженный словами Симонова — «гляди в оба», Окутин наморщил лоб и сел.
— Ну-с… За сим… Сержант Николаев!
Тот поднялся, высокий и поджарый. На молодом, сильно загорелом лице со светлыми, песочного цвета усами выражение растерянности и тревоги.
— Тебе предстоит задача многотрудная. Возьмешь у подьячего восемь опечатанных конвертов и, на пути в Оренбург, развезешь их по форпостам. А конверт за сургучными печатями — лично губернатору Рейнсдорпу. Конверты береги, они с важным оглашением о воре Емельке Пугачеве, похитившем имя покойного государя Петра Третьего. Собирайся в путь, брат Николаев, незамедлительно.
Сержант поклонился и вышел. Вся его стройная фигура как бы надломилась, на лицо набежала тень.
Симонов позвонил. Два гайдука, с нагайками через плечо, ввели калмыка. Три дня тому назад его схватил в степи казачий разъезд старшины Окутина. Глаза у калмыка раскосые, злые, усы и бородка реденькие.
— А ну, молодцы, вытяните его вдоль спины покрепче! — хрипло выкрикнул дремавший перед тем Мартемьян Бородин.