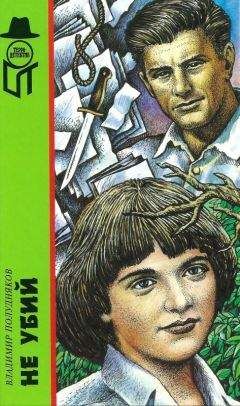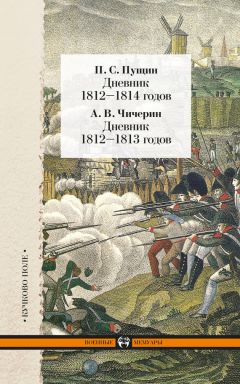Августа 20. Приходит ко мне Сеня, весь сияющий.
— Ну, Андрюша, в ножки мне поклонись: тебе, кажется, тоже дадут эполеты. Говорил я с самим Волконским.
— Да ведь просил же я тебя не говорить…
— К слову пришлось. Ты точно боишься стать офицером?
— И то боюсь. Ведь в приказе-то как будет сказано? «Производится в корнеты такой-то юнкер»… А какой же я юнкер? Сам знаешь, что я и экзамена никакого не сдавал…
— Станешь корнетом, так и об экзамене никто уже не спросит; все будет шито-крыто.
Вот и толкуй с этаким ветрогоном!
Повинная и арест. — Юнкерский экзамен и атаман Платов
* * *
Августа 25. Тёплицкие горячие ванны своей целебностью славятся. Вот император Франц и предоставил их в пользование нашим больным солдатам. Но купаться пока что никому доселе не приходится: после похода да кровопролитной битвы столько грязного белья накопилось, что целый день в тех ваннах стирка идет.
От множества войск в городе цены на все съестное баснословные; хлеба же ни за какие деньги уже не раздобыть. Расположенные по окрестностям полки, впрочем, еще больше нашего в продовольствии нуждаются. Фуражиры их за десятки верст рыскают; а в ожидании и нижние чины, и офицерство грушами и сливами пробавляются: все дороги здесь фруктовыми деревьями обсажены, ешь, — не хочу.
Пруссаки с нами, русскими, по-прежнему ладят: «Либер фрейнд! Камерад!» Цесарцев же, как и мы, не терпят, то и дело драки с ними заводят.
* * *
Августа 27. Нигде покою себе не нахожу: роковое 30-е число все на уме. Чтобы порассеяться, в театр пошел, — разумеется, на верхи, в парадиз: юнкера ведь те же нижние чины. Шла шутка Коцебу: «Проказы шута». Немцы покатывались со смеху. Мне же вовсе не казалось смешно, потому ли, что очень уж пошлы их немецкие «проказы» и «вицы», или потому, что у самого на душе такая скверность… Скорее бы хоть 30-е наступило! Один конец…
* * *
Августа 29. Предчувствие меня, не обмануло.
Каких не вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться, —
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться…
У штабного писаря, что переписывал завтрашний приказ о наградах, Сагайдачный выпытал, что ему, Сене, дают Станислава с мечами в петличку, а мне и взаправду эполеты. У меня сердце совсем упало, и я решился идти к начальству с повинной. Но решение — одно, а выполнение — другое. Когда я толкнулся в приемную князя Волконского, то она была полна штаб- и обер-офицеров. В это время из княжеского кабинета выходит Муравьев. Я — к нему.
— Голубчик, Николай Николаич! Мне непременно надо к князю; но очереди тут нашему брату не дождаться.
— Да, уж придется вам потерпеть день другой.
— Но мне надо к нему теперь же, сейчас, во что бы то ни стало!
— Что за спех такой?
— От этого зависит вся судьба моя.
— Да в чем дело?
И стал я шепотом выкладывать ему начистоту, как в Смоленске добывал себе заграничный вид. Он, однако ж, не дослушал.
— Простите, мой милый; мне решительно некогда: наши пешие гвардейцы дают завтра, в Александров день, в своем селении банкет прусской гвардейской пехоте и артиллерии. Я откомандирован по сему случаю в распоряжение командира Преображенского полка, и вот тороплюсь теперь туда. Хотите, поезжайте со мной? По дороге мне и доскажете.
Так я поехал с ним да, яко исповеднику на духу, поведал ему все, что меня так удручало. Он сделал пресерьезное лицо.
— М-да, некрасивая история… Губернаторского чиновника вы пожалели, а себя подвели. Вот и расплачивайтесь. О производстве вашем в офицеры не может быть теперь, кажется, и речи.
— Но приказ уже переписан…
— В этом и загвоздка. Вечером я буду снова с докладом у князя Петра Михайлыча; доложу ему, извольте, и об вас.
— Но что меня ожидает?
— А уж это предсказать вам не берусь. Хорошо, коли не разжалуют в солдаты. Ну, да и из солдат ведь выслуживаются. Падать духом военному человеку не приходится. А вот мы и у места. Полюбуйтесь, кстати, столовой для банкета.
Столовую, в самом деле, стоило посмотреть. Устроили ее в огромной мазанковой риге. Все четыре стены разобраны; оставлены одни столбы под крышей, и те сверху донизу зеленью перевиты. Люстры и бра — из живых цветов, нарочито выписанных из Праги. Главный стол, по середине риги, предназначен для высочайших особ и их свиты; вокруг оного широким полукругом поставлен другой длиннейший стол для прусских офицеров, которые сидеть будут только с наружной стороны лицом к главному столу.
— А где же стол для наших офицеров? — спрашиваю я Муравьева.
— Им, хозяевам, сидеть не полагается. Они будут угощать дорогих гостей: гренадеры гренадеров, артиллеристы артиллеристов и т. д. В разных местах будут, разумеется, хоры музыкантов и песельников.
Да! Банкет выйдет знатный, со здравицами, музыкой, песнями… Но мне-то таковые — звук пустой: дома у себя сидя, я участи своей ожидаю; Муравьев после доклада Волконскому зайти обещал.
… Вместо Муравьева зашел дежурный офицер.
— А я, Пруденский, за вами. Приказано вас под арест взять. Да вот вам записочка от Николая Николаича.
Записка была наскоро написана карандашом: «Зайти к вам сейчас не имею возможности. Вышло, как я предсказывал. Но князь Петр Михайлович доложит еще государю».
И я уже в арестантской, да не в общей, а в одиночной, на хлебе и воде. Прощай, эполеты! Прощай, значит, и Ириша!
* * *
Августа 31. Весь вчерашний день ни одна душа ко мне не заглянула. Не до меня им было — царские именины! Сегодня же зашел Муравьев.
— Ну, Пруденский, страшен сон, да милостив Бог.
— Меня простили?
— Простить не простили…
— Но князь докладывал обо мне государю?
— Докладывал. По-настоящему за самозванство вас следовало в арестантские роты закатать без выслуги…
Как ни крепился я, а на глазах слезы навернулись.
— Полно вам малодушничать! — сказал Муравьев. — Не все ведь еще для вас потеряно. Слушайте дальше. Когда князь вас по имени назвал, государь про вас вспомнил:
— Да это не тот ли самый юнкер, у которого при Кульме кивер пулей пробило?
— Тот самый.
— Так лишить его всякой выслуги было бы слишком жестоко.
— Но юнкерского экзамена, ваше величество, он еще не сдавал.
— Так пускай сдаст.
— Весьма сомневаюсь, ваше величество, — говорит Волконский, — что он сможет сдать: сам он сознался мне, что за малоуспешность в науках должен был оставить семинарию.
— Продержите его месяц под арестом: за это время он подготовится.
— Помилуйте, Николай Николаич! — воззвал я к Муравьеву. — Где же в месяц времени подготовиться по всем предметам? И так-то мозги мои познаниями никогда обременены не были, а теперь и последнее выдохлось.
— Уж это ваше дело. Юнкерский экзамен, да еще в военное время, не такая уж мудрость. Приналяжете хорошенько — и выдержите. «Хочу» — половина «могу». А не сможете, так уж не взыщите, — будете разжалованы.
Я и голову повесил.
— Да и книг учебных, — говорю, — мне негде взять!
— Русских учебников здесь, у немцев, разумеется, не найти…
— А в немецком языке я швах, зер швах!
— Но кое-что все-таки понимаете? А по-французски и говорите и читаете свободно?
— В Москве, в плену у французов, несколько книг перечитал.
— Вот это и пойдет вам теперь впрок.
— Но французские учебники здесь тоже вряд ли найдутся…
— Так готовьтесь по немецким с французским лексиконом. Подробностей вас спрашивать не станут, а самое главное я отмечу вам карандашом. Математикой же займусь с вами сам. Сейчас пойду справиться, где тут книжные лавки. До свидания.
Этакая добрая душа! Сколько ведь на свете милых людей! Придется уже стряхнуть с себя эту проклятую славянскую лень…
* * *
Сентября 12. Сначала мне приходилось тяжко, пока возился с лексиконом. Но все отчеркнутое Муравьевым в географии и истории Сагайдачный переводит мне теперь на русский язык, а потом еще переспрашивает. Арифметика же и геометрия у самого Муравьева идут как по маслу.
* * *
Сентября 22. На Бога надейся, но и сам не плошай. До конца ареста мне оставалась еще целая неделя, как вдруг меня зовут к Волконскому.
— Ну-с, Пруденский, — говорит он, — мы выступаем из Теплица; в дороге держать вас взаперти негде. Надеюсь, что арест свой вы использовали. Экзаменовать юнкеров положено собственно в особой комиссии; но на войне допускается и упрощенный способ. На ваше счастье я кое-что уж перезабыл; но чего не должно забывать, то еще, слава Богу, помню. Назовите-ка мне главные города Европы.