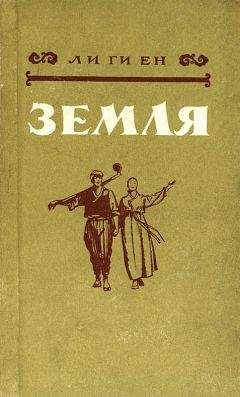Налоги росли с каждым днем. Даже в страдную пору уездная и волостная управы облагали крестьян непосильной данью. Каждый крестьянин обязан был поставлять властям несколько сот кванов[27] смолистых сосновых сучьев, несколько десятков кванов коры ясеня и липы, несколько кванов дикой виноградной лозы, пять кванов сушеных госари и доради[28], несколько кванов лечебных растений: бокрен, ченчун, санса. И это еще не все! В поставки входили: конопля, стручки клещевины, перец, чеснок, куры, яйца, свиньи, волы, мешки, веревки из рисовой соломы, котлы для производства древесного угля и даже соломенные башмаки.
Японцы ввели налог на дочерей, работавших на городских предприятиях. Желая облегчить налоговое бремя, крестьяне, у которых были дочери, старались поскорее выдать их замуж.
Крестьян то и дело мобилизовали на всякого рода работы, надолго отрывая их от хозяйства; призывали в так называемую «армию помощи родине».
Властями был издан однажды приказ о поголовном истреблении собак в Корее. И по деревням, по проселочным дорогам начали шнырять живодеры в поисках уцелевших собак.
Корейская земля, все ее природные богатства, домашние животные, растения и даже дикие звери были подвластны жадным захватчикам, дравшим семь шкур с живого и мертвого.
Привольно жилось лишь японским холуям, сельским и квартальным старостам: им выдавались специальные пайки и денежные награды, они были вовсе освобождены от налогов. Особо «отличившиеся» получали звание «передовых старост». И они лезли из кожи вон, стараясь угодить своим хозяевам. А жертвами их рабского усердия снова оказывались простые крестьяне.
Ободрав крестьян как липку, японцы обещали выдавать им по карточкам продовольственные пайки. Но это был сплошной обман. На бумаге — все жители Кореи могли получать продовольственные карточки. На деле — продовольствием обеспечивались в первую очередь прояпонские элементы, а сельским жителям сплошь и рядом отказывали в пайках. Да и из рабочих далеко не все могли воспользоваться карточками. Получалось так, что сытый ел в три горла, а голодный был обречен на верную смерть.
Если бы Пак Чем Ди лебезил перед японцами и угождал им, он наверняка пришел бы домой не с пустыми руками.
Нередко бывало, что крестьянин, когда дома не оставалось ни крупинки риса и неоткуда было достать его, видя, что его жена и дети обречены на медленную голодную смерть, в отчаянии кончал жизнь самоубийством.
На северной окраине Бэлмаыра жил бедный крестьянин Ко Се Бан. Он арендовал у Сон Чхам Бона жалкий клочок суходольной земли. Земля эта не могла прокормить семью, и Ко Се Бану приходилось батрачить у богатых хозяев. Наступил июль, самый тяжелый для крестьян месяц — «месяц голода», как называли его в деревнях. К этому времени у крестьян ничего уже не остается от прошлого урожая, а до нового еще далеко. Кое-какие ранние злаки, которые удавалось собрать крестьянам, приходилось целиком отдавать в уплату налогов.
Попав в беду, Ко Се Бан попытался наняться к кому-нибудь в батраки, но в его услугах никто не нуждался: в эту пору мало кому требовалась рабочая сила.
Молодая жена и малолетние дети Ко Се Бана, опухшие от голода, уже несколько дней неподвижно лежали на кане[29].
После долгих раздумий Ко Се Бан решил сходить к писарю Сону, который ведал в волостной управе выдачей карточек. Выслушав Ко Се Бана, Сон дал ему понять, что он мог бы, конечно, выдать карточки, но только в том случае, если Ко Се Бан оценит его, Сона, усердие…
Вернувшись из волости домой, Ко Се Бан захватил свинью, которую он держал про черный день, и отвел ее на рынок. Продав свинью, он купил на закуску мяса и водки для Сона. Получив взятку, Сон выдал, наконец, Ко Се Бану карточки. Как бедняга обрадовался тому, что он сможет принести в дом хоть немного риса!
Но когда он явился на продовольственный пункт, сын Сон Чхам Бона вытаращил на него глаза.
— Ну, люди, видать, совсем потеряли совесть! Ты ж арендуешь землю да еще батрачишь. Что у тебя, денег нет? За каким чортом ты сюда пришел? Ступай, ступай отсюда, нет тебе никаких продуктов!
Ко Се Бан опешил от неожиданности. Несчастье свалилось на него как снег на голову. Он понял, что пайка ему не видать, и, понурив голову, отправился домой…
А как уговаривала его жена не продавать свинью… Ведь это было все, что у них оставалось. Последняя их надежда, последнее подспорье. Жена заботливо выхаживала свинью: если бы они получили от свиньи поросят, то смогли бы продержаться некоторое время и без карточек…
Но этот проклятый писарь Сон спутал все карты! Придя от него, Ко Се Бан начал с жаром убеждать жену, что свинью необходимо продать. Можно ли думать о будущем, если они вот-вот умрут с голоду!..
Жена возражала Ко Се Бану, но он стоял на своем. И ей пришлось уступить мужу, уверявшему ее, что уж кто-кто, а он-то сумеет добыть карточки, и тогда они будут обеспечены.
И вот — ни свиньи, ни продуктов…
Ко Се Бан побежал к писарю и рассказал ему о случившемся. Писарь только руками развел: что же он может сделать, если Ко Се Бану отказали на продовольственном пункте? Куда только девалась самонадеянность писаря Сона, его похвальба и уверения, что он-де все может, что все зависит только от него! Видно, эту самонадеянность следовало подогреть новыми подношениями, да денег у Ко Се Бана больше не было.
Отчаяние охватило Ко Се Бана.
С каким лицом он придет домой, что скажет жене? Если бы на деньги, истраченные на угощение писаря, он купил крупы, это хоть немного поддержало бы семью. Дома жена и дети ждут его с продуктами… Ему живо представилось, как жена утешает плачущего голодного ребенка, с каким нетерпением поглядывает она на дверь…
И гнев переполнил его сердце. Всю эту сволочь, всех этих Сонов надо уничтожить, стереть с лица земли! Кто, как не Сон и ему подобные, виноват в несчастьях Ко Се Бана?! Он сжал кулаки; на глазах у него выступили слезы. Это были не рабские слезы обиды — протест и возмущение горели в его глазах.
Незаметно зашло солнце. Из горных ущелий выползли сумерки.
Ко Се Бан шел, ничего не видя перед собой, шел в каком-то исступлении, и слезы все текли и текли по его щекам. Он чувствовал себя глубоко виноватым перед своей семьей.
Вдруг он остановился, и на лице его появилось выражение решимости. Нет, ему нельзя прийти домой с пустыми руками! Грош цена человеку, который не в силах прокормить свою жену и детей! Что толку из того, что он вернется домой?.. Нет выхода бедняку в этом мире вопиющей несправедливости!
Ко Се Бан круто свернул в сторону и через мост, что находился к югу от рынка, направился к сопке, у подножия которой сверкал, словно зеркало, большой пруд. На берегу пруда одиноко стояла старая развесистая ива… Здесь, у этой ивы, проходили обычно гулянья; в день майского праздника Дано[30] под деревом собирались юноши и девушки; привязав к иве качели, они с веселым смехом и песнями качались на них. Посещал иногда это место и Сон Чхам Бон с уездными чиновниками, приезжавшими в волость по служебным делам. Они устраивали здесь пикники и целыми днями предавались разнузданному, пьяному разгулу.
Ко Се Бан в молодости тоже приходил сюда со своими сверстниками; ах, как это весело было — взлетать на качелях под самые облака!..
Ко Се Бан взобрался на дерево; привязал один конец своего пояса к суку, к которому прежде привязывались качели, и, сделав из другого конца петлю, накинул ее на шею.
Труп Ко Се Бана, качавшийся на иве, обнаружили лишь на следующий день.
Ранним утром Кэгутянь пришла на пруд полоскать белье. Сначала она ничего не заметила — старуха торопилась, боясь, как бы кто не застал ее у пруда: стирать белье здесь запрещалось. Случайно взглянув на иву, Кэгутянь увидела, что на дереве висит какой-то человек… Она поднялась и с мокрым бельем в руках подошла поближе…
Да, это человек. Язык у него вывалился, а глаза были выпучены так страшно, что Кэгутянь с криком «Ой, боже мой!» отскочила от дерева и, не оглядываясь, со всех ног припустилась в поселок.
— Ой, люди, добрые люди, у пруда человек повесился! Ой, горе, горе мне бедной, не видать мне теперь богатства: мне первой попался на глаза этот повешенный! Ужас! Ужас!.. Язык у него высунулся на добрые пять аршин! Я в себя прийти не могу; видите — дрожу вся. Тьфу, тьфу!..
Она плевалась, качала головой и тараторила без умолку. Размахивая мокрым бельем, она направилась к своему дому. Услышав причитания Кэгутянь, люди, находившиеся на рынке, обгоняя друг друга, побежали к пруду.
В числе любопытных был и Сон — писарь карточного бюро волостной управы. Он сразу узнал Ко Се Бана, который вчера умолял выдать ему карточки, принес мясо и угощал водкой в трактире…
Покойник смотрел на толпившихся у ивы людей страшными, выпученными глазами, словно угрожая кому-то… Сон почувствовал страх перед мертвецом и поспешил уйти от пруда. Даже и после смерти лицо Ко Се Бана сохраняло выражение неудовлетворенной мести.