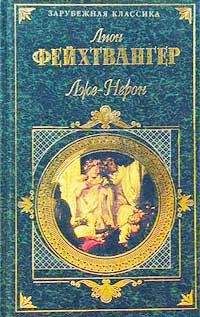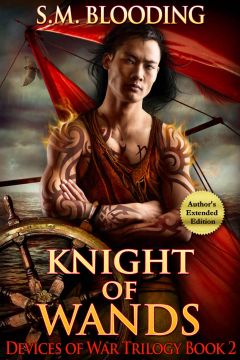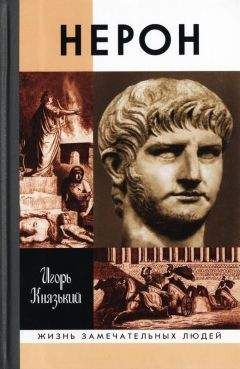Фронтон изумлен. Предложение Шарбиля звучит совершенно искренне, необычайно честно и корректно. Не ошибся ли Фронтон? Неужели за этим Теренцием не скрывается ни Варрон, ни царь Маллук? Неужели все это в целом попросту шутка дурака или безумца, страдающего манией величия? Но против такого предположения говорит то, что события назревали медленно, планомерно, в них чувствовалась целеустремленность. Фронтон, как он ни был хитер, не мог понять, что же на самом деле задумал верховный жрец. Как всегда, поведение Маллука избавляло его от всякой ответственности: Фронтон похвалил мудрость и верность союзникам, проявленные великим царем Эдессы. Потом, задумчиво покачивая головой, он отправился домой диктовать донесение.
Но не успел он продиктовать еще несколько строк, как пришло новое спешное письмо от верховного жреца. В словах, выражавших большое смущение и озабоченность, Шарбиль сообщал, что люди, которым было приказано удостовериться в личности того человека, уже не нашли его, он скрылся в храм богини Тараты, намереваясь использовать право убежища, даруемое богиней.
Фронтон свистнул сквозь зубы. Храм Тараты был всеми признанным убежищем. Эдесские власти не могли вторгнуться в это убежище, это было невозможно и для римлян - иначе им пришлось бы восстановить против себя весь Восток. Теперь ему стало ясно, почему Шарбиль так срочно вызвал его к себе. Верховный жрец хотел помешать ему. Фронтону, арестовать этого человека, он своевременно укрыл его в убежище богини, охраняя его от римлян. Но все это жрец сделал так, чтобы из Рима не могли предъявить ему никаких претензий. Разговор с Фронтоном должен был создать ему алиби. Царь Маллук выказал намерение арестовать этого человека, хотя это и не было его обязанностью, и представить его в распоряжение римского губернатора. Но раз Теренций или кто бы он ни был бежал, раз он ищет покровительства у богини Тараты, то он, Шарбиль, и его господин, царь Маллук, в этом неповинны.
Фронтон улыбнулся, разгадав эту восточную хитрость. Теперь в Месопотамии начнется изрядная кутерьма. Дергунчику придется здорово подергаться, подумал он на хорошем латинском языке.
То же самое на хорошем арамейском языке незадолго до этого подумал верховный жрец Шарбиль.
16. ГОСТЬ БОГИНИ ТАРАТЫ
И вот Теренций очутился в храме Тараты, в самом сердце его, в святилище, где помещались древнее изображение богини, ее алтарь и ее непристойные символы. Со дня овации в театре он испытывал страх, и ему пришло в голову скрыться в Лабиринте до тех пор, пока не появится Варрон и не внесет ясность в ход событий. Но когда к нему явился человек в одежде торговца, намеренно плохо скрывавшей жреца Тараты, и предложил ему немедленно отправиться в убежище богини, он последовал за ним без колебаний, слепо, со вздохом облегчения, он чувствовал, что он теперь в хороших, могущественных руках.
Он ожидал, что верховный жрец встретит его как гостя богини, заверит его в ее покровительстве, устроит ему достойный прием. Но ничего подобного не случилось. Его оставили в одиночестве, в тесной, неуютной каморке, в полной неизвестности. Шарбиль точно так же, как и Варрон, считал полезным затянуть дело, чтобы сделать Теренция возможно более покладистым.
Пришла ночь, для Теренция - ночь отнюдь не из приятных.
Храм Тараты был велик. Провести ночь в притворе было бы не так обидно. Там была какая-то своя жизнь - маленький пруд с рыбами богини и множество белых голубей, посвященных ей. В самом храме тоже было еще терпимо, хотя легко представить себе более уютное помещение, чем этот колоссальный зал с его древними, исчерна-зелеными, кверху суживающимися колоннами. Но Теренций не знал, простирается ли право убежища, дарованное богиней, на весь храм или же только на "святилище" с его алтарем и изображением богини. А в этом "святилище", куда сквозь узкое отверстие проникал лишь скудный свет луны и звезд, было тесно и жутко, и Теренцию все мерещились какие-то страшные лица. Он улегся на верхней ступени алтаря, стараясь в страхе дотянуться одной рукой до самого алтаря; ему неясно помнилось, будто тот, кто ищет убежища у богини, должен уцепиться рукой за ее алтарь или за ее изображение. По обе стороны алтаря тянулись в неверном свете месяца символы богини, колоссальные каменные изображения фаллоса. У изголовья Теренция, в нише над алтарем, поднималась древняя диковинная статуя Тараты, цвета темной бронзы. На богине была каменная корона, остро торчали ее голые груди, нижняя часть тела переходила в рыбий хвост. В одной руке она держала прялку, в другой - бубен. Ее узкое, древнее и все же молодое лицо с закрытыми глазами улыбалось гостю нежно, двусмысленно и жестоко.
Среди ночи Теренций стал зябнуть. Чувство уверенности, которое он ощутил при появлении посланца Тараты, покинуло его. Долго ли еще ему придется ждать здесь, в этом недостойном положении? Почему первосвященник не является, наконец, приветствовать его? Куда девался Варрон? Почему его оставляют в полной неизвестности и одиночестве, если хотят, чтобы он был императором? И в безопасности ли он здесь вообще? А что если его завлекли в ловушку? Страх его рос, им овладевал гнев на людей, которые соблазнили его этой авантюрой, заманили его сюда, и ему очень хотелось, чтобы, по крайней мере, Кайя или раб Кнопс были с ним.
Он пытался найти опору в своей вере в себя. Он принял образ Нерона, он был императором - один, высоко над всеми и всем. Так подобает императору. Он недосягаем, он - повелитель мира. Снаружи доносилось воркованье священных белых голубей, которых что-то потревожило, в отверстие мерцал лунный свет, и богиня улыбалась своей таинственной и злой улыбкой. Это позор для всего Запада, что ему, императору, пришлось искать защиты у этой двусмысленной богини, под сенью ее непристойных символов. Но он тотчас же раскаялся в этих мыслях, которые могли быть истолкованы Таратой как поношение ее: ведь он теперь в ее руках.
Как он ненавидел этого актера Иоанна из Патмоса! Именно тот поставил его в это положение своим нелепым чтением "Октавии", не говоря уже о том, что он, Теренций, если бы только захотел, был бы куда более великим артистом, чем этот грязный христианин. Вспомнить только, какого Эдипа дал этот Иоанн: все, с начала и до конца, было фальшиво и без подлинного подъема. Сам Иоанн, если он действительно что-нибудь понимает в искусстве, понял бы, что под оболочкой Теренция скрывается нечто большее. Толпа, с ее здоровым инстинктом, тотчас же это поняла. Только снобы, несколько наемников Тита и подкупленные им ставленники не хотят этого понимать. И из-за них он должен здесь скрываться.
Но теперь уже недолго терпеть, скоро он сможет раздавить их всех, всех своих противников. Он перебирал в уме имена тех, кто руководил сторонниками Тита в Эдессе. Конечно, сюда же он отнес людей, которых он лично, по тем или иным мотивам, невзлюбил, с которыми у него были столкновения - конкурентов, товарищей по цеху, подозреваемых в том, что они недостаточно почтительны к нему. В конце концов, получилась довольно внушительная шеренга. Он спрашивал себя, должен ли он отнести сюда и Кайю с ее дерзкими сомнениями. Но он не додумал эту мысль до конца и ни на что не решился. Вместо этого он начал со всеми подробностями рисовать себе, как он со вкусом, не спеша, будет мстить тем, кого считает своими открытыми врагами.
Его все сильнее знобило. Он поднялся, начал ходить взад и вперед, не сходя с верхней ступени, вдоль алтаря - так, чтобы можно было тотчас же коснуться его, если бы сюда ворвались солдаты Фронтона. Слабый, сладковатый и противный запах поднимался из желоба под алтарем, в который стекала кровь приносимых в жертву Тарате животных. Эту ночь он будет помнить долго. Ночь, когда он пришел с Палатина, после того, как туда вторглись солдаты сената, и нынешняя ночь - это два самых ужасных перевала в его жизни.
Но придет же ей конец, этой ночи. Наступит день - "Будет некогда день..." Ведь уже ясно, что сон, приснившийся его матери, истолкован правильно. Он уже проделал большую часть подъема, это был самый крутой и трудный отрезок пути; а как только наступит день, как только он избавится от этого проклятого мерцающего света, все поймут, кто он. Он стоял, недовольно выпятив нижнюю губу, в позе императора. Он достал смарагд, поднес его к глазу и критически, дерзко рассматривал изображение Тараты. Оно ему не нравится, весь ее храм ему не нравится. Он будет строить иначе, когда придет время. Он возведет грандиозные, монументальные здания. Вместо его колоссальной статуи, которой они в Риме отбили голову, он воздвигнет новую, еще более колоссальную. Свое изображение, громадных размеров, он высечет в горе, как это делали старые властелины. А Лабиринт, свой Лабиринт, он сделает гробницей, своим мавзолеем, восьмым чудом света.