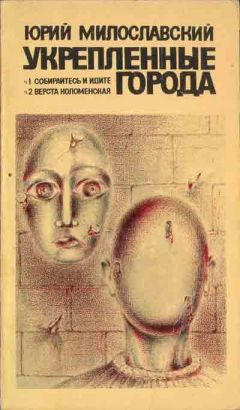– Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского, – продолжал боярин, – что нижегородцы будут к тебе также милосердны и побоятся умертвить тебя, как предателя и слугу короля польского?
– И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского.
– Ого, молодчик!.. Да ты что-то крупно поговариваешь! – сказал Кручина, нахмурив свои густые брови.
– Да, боярин, – продолжал Юрий, – я служу не польскому королю, а царю русскому, Владиславу.
– Но Сигизмунд разве не отец его?
– Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские.
– Полегче, молодец, полегче! За всех не ручайся. Ты еще молоденек, не тебе учить стариков; мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу, я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истоме-Туренину. Он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу; а там что бог даст! От сына до отца недалеко…
– Нет, боярин, пока русские не переродились…
– Добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела… итак, не взыщи… прощай покамест! Не с ума ли сошел Гонсевский! – продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия, – прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве! Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел! Добро, молодчик! ты поедешь в Нижний, и чтоб у тебя на уме ни было, а меня не проведешь: или будешь плясать по моей дудке, или…
Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу: приехал ли из города его стремянный Омляш?
– Сейчас слез с лошади, государь, – отвечал служитель.
– Скажи, чтоб он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком, через садовую калитку, и был бы готов к отъезду. Ступай!.. Да позови ко мне Власьевну.
Через несколько минут вошла в покой старушка лет шестидесяти, в шелковом шушуне и малиновой обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина.
– Ну что, Власьевна, – спросил боярин, – порадуешь ли ты меня? Какова Настенька?
– Все так же, батюшка Тимофей Федорович! Ничего не кушает, сна вовсе нет; всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем – сама не знает! Уж я ее спрашивала: «Что ты, мое дитятко, что ты, моя радость? Что с тобою делается?..» – «Больна, мамушка!» – вот и весь ответ; а что болит, бог весть!
Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом; но и дикие звери любят детей своих, а сверх того, честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского; она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил: употребляла ли больная снадобья, которые оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву?
– Э, эх, батюшка Тимофей Федорович! – отвечала старушка, покачав головою. – С этих-то снадобьев никак ей хуже сделалось. Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасье Тимофеевне попритчилось недаром. Нет, отец мой, неспроста она хворать изволит.
– Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена?
– Испорчена, батюшка, видит бог, испорчена!
– Я плохо этому верю; ну да если ничто не помогает, так делать нечего: поговори с Кудимычем.
– Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить; да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Так не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе у приказчика Фомы пирует с молодыми.
– Хорошо, пошли за ним: пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему: если он ей пособит, то просил бы у меня чего хочет; но если ей сделается хуже, то, даром что он колдун, не отворожится… запорю батогами!.. Ну, ступай, – продолжал боярин, вставая. – Через час, а может быть, и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную.
Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов.
– Вот здесь, – сказал он, – отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется.
– Благодарю, – отвечал Юрий, – я не голоден, а желал бы отдохнуть.
– Так не чинись, боярин, приляг и засни; нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тишкевича, который сегодня прибыл сюда с своим региментом. Доброго сна, Юрий Дмитрич! А я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней.
Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовитых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами – вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду, вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если б этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтоб его никто не заметил; он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду, и, как будто бы с робостию, оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть: как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце; все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастие отечества – все, что наполняло восторгом его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение отечества во всей ужасной истине своей представились его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши, кровь волновалась в ею жилах, но усталость взяла свое: глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства Русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом; что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к Грановитой палате; что на высоком царском тереме развевается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отвращает свои взоры… и вот перед ним древний храм Спаса на Бору; церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу?.. Она! Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его: «Я долго, долго дожидалась тебя, мой суженый! поспешим… Священник готов; он ждет нас у налоя; пойдем!» С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку… и вот уже они стоят рядом… им подают брачные свечи… Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым хохотом окружает невесту; Юрий ищет своей сабли – ее нет; хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на хладный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто б пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса… кругом толпится народ… радость на всех лицах… тихое, очаровательное пение раздается в храмах господних; вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце… Она опять возле него; на правой руке ее обручальный перстень… Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой! посмотри: видишь ли, как восходит солнце русское?.. Скоро, скоро заблистает в ярких лучах его наша милая родина!.. Смотри: вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе…» Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слышит вопли отчаяния… Она опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»
Покуда Юрий спит и обманчивые сновидения попеременно то терзают, то услаждают его душу, мы должны возвратиться к новобрачным, которых оставили посреди улицы. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша вмешался в толпу гостей, а Кудимыч шел впереди всего поезда. Толпа народа, провожавшая молодых, ежеминутно увеличивалась: старики, женщины и дети выбегали из хижин; на всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание; полуодетые, босые ребятишки, дрожа от страха и холода, забегали вперед и робко посматривали на колдуна, который, приближаясь к дому новобрачных, останавливался на каждом шагу и смотрел внимательно кругом себя, показывая приметное беспокойство. Не дойдя несколько шагов до ворот избы, он вдруг остановился, задрожал и, оборотясь назад, закричал диким голосом: