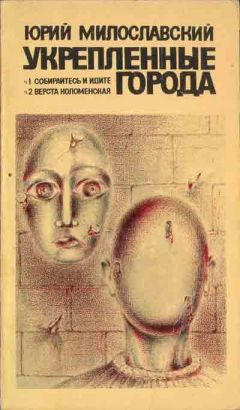– Видно, лучше. Их там нет.
– Как нет? – вскричала Григорьевна.
– Да, голубушка! – отвечал спокойно Кирша. – Не за свое ремесло ты принялася, да и за выучку больно дешево платишь. Нет, тетка, одним штофом наливки и пирогом не отделаешься.
От этих неожиданных слов Кудимыч и Григорьевна едва усидели на лавке; их страх удвоился, когда вошедший дружка объявил, что не нашел красен в показанном месте.
– Да где ж они? – спросила торопливо сенная девушка.
– Небось найдутся, – сказал Кирша. – Пошлите кого-нибудь разрыть снег на задах, подле самой часовни.
Несколько гостей, не ожидая приказания, побежали вон из избы.
– Послушай, господин приказчик, – продолжал Кирша, – не греши на Федьку Хомяка: он ни в чем не виноват. Не правда ли, Кудимыч?.. Ну, что ты молчишь? Ты знаешь, что не он украл красна.
Несчастный колдун сидел неподвижно, как истукан, поглядывал с ужасом на Киршу и не мог выговорить ни слова.
– Эге, брат! так ты вздумал отмалчиваться! – закричал запорожец. – Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу! Подайте-ка мне решето да кочан капусты; у меня и сам вор заговорит!
Кудимыч затрясся, как осиновый лист.
– Помилуй! – прошептал он трепещущим голосом. – Твой верх – покоряюсь!
– Что, брат, жутко пришло!
– Не губи меня, окаянного!
– А ты разве не хотел погубить Федьку Хомяка? Нет, нет… давайте решето!
– Пусти душу на покаяние! – продолжал Кудимыч, повалясь в ноги запорожцу. – Не зарежь без ножа! Да кланяйся, дура! – шепнул он Григорьевне, которая также упала на колена перед Киршею.
– И слушать не хочу! – отвечал запорожец. – Нет вам милости, негодные! Ну, что ж стали? подавайте кочан капусты!
– Помилуй! – завопил Кудимыч. – Зарок тебе даю, родимый, – век не стану колдовать.
– Полно, не будешь ли?
– Видит бог, не буду!
– И других не станешь учить?
– Не стану, батюшка!
– Ну, так и быть! пусть на свадьбе никто не горюет. Бог тебя простит, только вперед не за свое дело не берись и знай, хоть меня здесь и не будет, а если я проведаю, что ты опять ворожишь, то у тебя тот же час язык отымется.
В продолжение этой странной сцены удивление присутствующих дошло до высочайшей степени: они видели ужас Кудимыча, но никто не понимал настоящей его причины.
– Что это значит? – спросил, наконец, дьяк приказчика.
– Как что! разве не видишь, что дока на доку нашел.
– Вот что! Ну Фома Кондратьич! мудрен этот прохожий. Смотри-ка, смотри! Вон и холст несут.
Сенная девушка с радостным криком схватила холст, который внесли в избу.
– Слава тебе господи! – сказала она, осмотрев все куски. – Целехонек!.. Побегу к Власьевне и обрадую ее; а то мы не знали, как и доложить об этом боярину.
– Чего ж вы дожидаетесь? – спросил Кирша Кудимыча и Григорьевну. – Я вас простил, так убирайтесь вон! Чтоб и духу вашего здесь не пахло!
Пристыженный колдун, не отвечая ни слова, вышел вон из избы; но Григорьевна, наклонясь к Кирше, сказала вполголоса:
– Не погневайся, отец мой! я вижу, Кудимыч плохой знахарь: вот если б твоя милость взял меня на выучку…
– Молчи, старая дура! – закричал Кирша. – Пошла вон! а не то у меня опять полетишь с полатей, да только солому-то я велю прибрать.
Григорьевна, не смея продолжать разговора с грозным незнакомцем, отвесила низкий поклон всей компании и побрела вслед за Кудимычем.
– А позволь спросить твою милость, имени и отчества не знаю, – сказал приказчик запорожцу, – откуда изволишь идти и куда?
– Издалека, добрый человек; а иду туда, куда бог приведет.
– По всему видно, что ты путем пошатался на белом свете.
– Да, и так пошатался, что пора бы на покой.
– А что, господин честной, верно, ты за морем набрался такой премудрости?
– Бывал и за морем; всего натерпелся и у басурманов был в полону.
– Ой ли! Где же это? Чай, далеко отсюда?
– Далеконько… за Хвалынским морем.
– Что это, за Казанью, что ль?
– Нет, подалее: за Астраханью.
– Что, ваша милость, какова там земля? Неужли господь бог также благодать свою посылает и на этот поганый народ, как и на нас православных?
– Видно, что так. Знатная земля! всего довольно: и серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого съестного. Зимой только бог их обидел.
– Как так? Да неужели у них вовсе зимы нет?
– Ни снегу нейдет, ни вода не мерзнет.
– Ах, батюшки-светы! – вскричал приказчик, всплеснув руками. – Экая диковинка! Вовсе нет зимы! Подлинно божье наказанье! Да поделом им, басурманам!
– Эх, Фома Кондратьич! – шепнул дьяк приказчику. – Да разве не видишь, что он издевается над нами!
– Порасскажи-ка нам, добрый человек, – сказал один из гостей, – что там еще диковинного есть?
– Пожалуй, да вот если б здесь нашлась чарка-другая романеи, так веселей бы рассказывать.
– Для дорогого гостя как не найти, – сказал приказчик. – Эй, Марфа! вынь-ка там из поставца, с верхней полки, стклянку с романеею. Да смотри, – прибавил он потихоньку, – подай ту, что стоит направо: она уж почата.
Роменею подали; гости придвинулись поближе к запорожцу, который, выпив за здоровье молодых, принялся рассказывать всякую всячину: о басурманской вере персиян, об Араратской горе, о степях непроходимых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и верблюдах; мешал правду с небылицами и до того занял хозяина и гостей своими рассказами, что никто не заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работницею Марфою, подошел к Кирше и, поклонясь ему ласково, объявил, что его требуют на боярский двор.
Мы попросим теперь читателей последовать за нами во внутренность терема боярской дочери, Анастасьи Тимофеевны Занимаемая ею половина состояла из двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен первой, на широких лавках, сидели за пряжею дворовые девушки; глубокая тишина, наблюдаемая в этом покое, прерывалась только изредка тихим шепотом двух соседок или стуком веретена, падающего на пол. Вторая комната была вся обита красным сукном; в правом углу стоял раззолоченный кивот с иконами, в богатых серебряных окладах; несколько огромных, обитых жестью сундуков, с приданым и нарядами боярышни, занимали всю левую сторону покоя; в одном простенке висело четырехугольное зеркало в узорчатых рамках и шитое золотом и шелками полотенце. Прямо против дверей стояла высокая кровать с штофным пологом; кругом ее, на небольших скамейках, сидели Власьевна и несколько ближних сенных девушек; одни перенизывали дорогие монисты[58] из крупных бурмитских зерен, другие разноцветными шелками и золотом вышивали в пяльцах. На их румяных лицах цвела молодость, красота и здоровье; но веселость не оживляла ясных очей их. Утирая украдкой слезы, они посматривали печально на молодую госпожу свою, которая, облокотясь правой рукой на изголовье, была погружена в глубокую задумчивость. Краса садов, пышная роза, и увядая, прекраснее свежих полевых цветов: так точно, несмотря на изнурительную болезнь, дочь боярская казалась прекраснее всех ее окружающих девиц. Изредка грустная улыбка, напоминающая прелестное сравнение одного русского стихотворца:
Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам –
появлялась на розовых устах ее. Восточный жемчуг, которым украшены были ее блестящие зарукавья и белое как снег покрывало, не превосходили белизною ее бледного лица, на котором ясно изображались следы беспрерывных душевных страданий. Казалось, в ее потухших, неподвижных взорах можно было сосчитать все ночи, проведенные без сна в терзаниях мучительной тоски, понятной только для тех, которые, подобно ей, страдали, не разделяя ни с кем своей горести. Богатый парчовый опашень[59], небрежно накинутый сверх легкой объяринной ферязи[60], широкая золотая лента с жемчужной подвязью, большие изумрудные серьги, драгоценные зарукавья, одним словом, весь пышный наряд ее представлял разительную противоположность с видом глубокого уныния, которое изображалось во всех чертах лица ее.
– Ну, что ж ты молчишь, Терентьич? – сказала Власьевна, оборотясь к дверям, подле которых стоял слепой старик в поношенном синем кафтане. – Видишь, боярышня призадумалась; начни другую сказку, да, смотри, повеселее.
– Слушаю, матушка Аграфена Власьевна, – отвечал слепой с низким поклоном. – Да, кажись, и та, что я рассказывал…
– И полно, батюшка, что в ней хорошего! «Царевна полюбила доброго молодца, злые люди их разлучили… а там Змей Горыныч унес ее за тридевять земель в тридесятое государство, и она, бедная сиротинка, без милого дружка и без кровных, зачахла с тоски-кручины…» Ну, что тут веселого?
– Из сказки слова не выкинешь, матушка Аграфена Власьевна.
– Вот то-то и есть: расскажи другую.
– В угоду ли вам будет повесть о славном князе Владимире, Киевском Солнышке, Святославиче, и о сильном его, могучем богатыре Добрыне Никитиче?