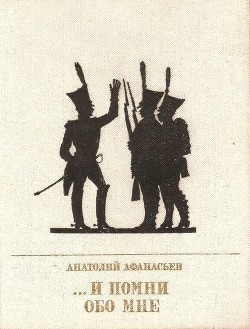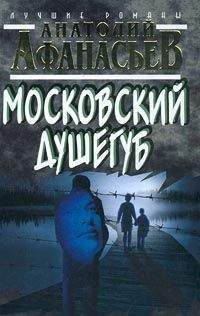Уже дважды за ним посылали нарочных с известием, что полк построен, а он все не находил в себе готовности предстать перед людьми, судьба которых отныне полностью зависела от его воли и разума. Брат Матвей не сводил с него печального уговаривающего взгляда. Все было сказано меж ними.
— Пойдем, Матюша, пора, — сказал Сергей Иванович негромко. Матвей кивнул, не подымая глаз.
С ними вместе на площадь вышел, еле передвигая ноги, полковой священник отец Даниил. Он должен был отслужить молебен и прочитать «Катехизис», сочиненный Сергеем Ивановичем. По «Катехизису» солдаты присягнут не императору Николаю, а богу. Отец Даниил Кейзер уже не единожды соглашался и отказывался и снова соглашался, и взял за службу авансом двести рублей у Муравьева, но все равно его пришлось вести чуть ли не под руки. Он шел, тупо уставясь в землю, продолжая сокрушаться, поминая то и дело свою несчастную Жену и детушек. Он бубнил жалобные слова таким замогильным голосом, что Муравьеву стало не по себе.
— Успокойтесь, батюшка, — сказал он резко. — Разве бог не учит вас жертвовать собой ради блага ближних?
— Если бы я еще знал, в чем состоит это благо, — промямлил отец Даниил.
— Благо ближнего в возможности для каждого человека, независимо от его состояния и сословия, быть свободным. Мы не раз беседовали с вами об этом и пришли к согласию.
— Вы, Сергей Иванович, умеете убеждать, и, возможно, вы правы, но, когда я вспомню о том, что грозит моей семье, — волосы дыбом встают. Я всего лишь слабый человек, поймите меня.
— И слабые в роковой час становились героями, если вступались за справедливость. Вы знаете об этом не хуже меня.
— Ох-хо-хо! Спаси и помилуй! — вздыхал священник.
Сергей Муравьев обвел продолжительным взглядом замершие ряды, ждущие его слова. Знакомые и незнакомые лица смотрели на него с одинаковым напряжением. Ни шума, ни привычных окриков, ни бряцания оружием — мертвая тишина. Неяркое солнце высунулось из серой прореви неба, и засеребрилась булыжная площадь. Острая, больно жалящая мысль пронзила Муравьева. Стоящие здесь на площади люди одиноки, как, может быть, никто сейчас в России, ибо они сбросили с себя вековую узду рабства — спасения им уже нет. Но ведь и ему нет спасения. Они хоть могут надеяться, они надеются на него, потому что поверили его словам и обещаниям, а ему самому надеяться не на кого.
— Друзья мои, — сказал Муравьев, задохнулся и повторил во всю силу легких: — Друзья мои! Солдаты и офицеры! Русские люди! Я поздравляю вас с успешным началом выступления. Нас мало, но за нами правда божия и человеческая. Могучие реки питаются маленькими ручейками, великие свершения начинаются с малых поступков, вселенские пожары вспыхивают от искры. Город Васильков — первый вольный город на нашей земле. Здесь подняли мы знамя борьбы за свободу и справедливость, отсюда понесем его по всей России. Может быть, впереди у нас страдания и муки. Мало кто из нас увидит ослепительную зарю победы — это ничего. Будущие поколения, дети и внуки наши, помянут нас добрым словом… Между нами нет и не должно быть принуждения. Кто колеблется, кто сомневается — пусть уходит, если совесть позволит ему оставить товарищей своих на славном, благородном и смертельно опасном пути. Лучшие сыны отчизны будут с нами и придут к нам.
Муравьев умолк. Роты в едином порыве сдвинулись с места. Восторженные крики оглушили площадь. И выше всех надрывный, юношеский голос Кузьмина.
— Постоим за отечество наше! Ура!
Муравьев, отворачиваясь, пряча слезы, сделал знак священнику. Тот начал читать по бумажке бодро, но дойдя до вопроса: «Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?» — запнулся, сбился и чуть слышно просипел кощунственный ответ: «От того, что цари похитили у них свободу». Подскочил Михаил Бестужев, отпихнул священника, вырвал у него бумагу, звонко, внятно прочитал:
«— Что ж святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?
— Раскаяться в долгом раболепии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земле Иисус Христос.
— Что может удержать от исполнения святого сего подвига?
— Ничто…».
Сергей Муравьев переживал волнующие, почти счастливые минуты, но не мог не видеть, что солдаты мало что поняли. Многие при упоминании Христа перекрестились. Пожилой солдат в первом ряду с испугом громко спросил:
— Царя, значит, нынче вовсе не будет?!
Алимпий Борисов радостно гаркнул:
— А без царя-то оно и сподручней управляться!
На него зашикали, остепенили. Офицеры морщились. Муравьев не ожидал, что так будет, хотя Матвей его и предупреждал. Сергей Иванович верил, что через божеские образы идея добра и справедливости легче дойдет до ожесточенных солдатских сердец. Солдаты поймут, в чем смысл восстания. Ан не угадал. Солдатам, простым людям, нужен был царь, они привыкли к царю. Иисус — это хорошо очень, но где он, Иисус, может, на небесах, а может, неизвестно где. Другое дело — добрый, всепрощающий царь, ласковый к своим верным слугам, который всегда может дать укорот притеснителям и лихоимцам.
— Да чего уж там, — выразил общее шаткое настроение Михей Шутов. — Теперь деваться некуда.
Муравьев мгновенно оценил обстановку и уж хотел было пояснить, что присягать будут Константину, законному наследнику, хитростью и коварством отстраненному от престола, но ему помешало появление на площади нового лица. На почтовой тройке, волоча за собой снежный шлейф, лихо подлетел сияющий юноша, соскочил с саней и бросился в объятия Муравьева. Это был Ипполит Муравьев, его девятнадцатилетний брат, прапорщик. Захлебываясь восторгом, посылая во все стороны ликующие шальные улыбки, он рассказал, что назначен во вторую армию, но останется здесь с любимыми братьями умирать за свободу. С его нежных губ суровые слова слетали, как каленые орешки, детский смех журчал живительным ручейком. Его прибытие в момент присяги было добрым знамением, подобным явлению ангела. Офицеры пошли из рядов здороваться. Каждый спешил побыстрее пожать хрупкую руку Ипполита, черпнуть капельку света из его счастливых глаз. О да, это ангел слетел к ним, чтобы воодушевить перед мрачной и опасной дорогой.
Матвей Муравьев с силой тряхнул брата за плечи.
— Ты не должен здесь оставаться ни минуты, Ипполит! Немедленно отправляйся по назначению.
Ипполит, не умея согнать с лица улыбку, строго ответил:
— Ты шутишь, Матюша? И не надейся, я никуда не поеду отсюда.
— Оставь его, Матвей, — неуверенно сказал Сергей Иванович. — На него сейчас никакие доводы рассудка не подействуют.
— Нет, не отстану. Он должен сейчас же уехать.
Вспыльчивый Кузьмин не выдержал, вмешался. Его восторженная душа рвалась навстречу душе Ипполита. Он Матвея презирал за его осторожность, за чрезмерную рассудительность, которая в такой момент представлялась его пылкому уму чуть ли не изменой.
— Ваш брат и наш брат, — сказал он гулко, как из колодца. — Зачем вы хотите лишить его чести погибнуть за отечество, принуждаете… быть трусом? Вам такие больше по душе?
Ипполит расширил в изумлении светлые глаза, торопливо шагнул к Кузьмину.
— Вы, вы благородный человек!.. Я брат ваш, да, да!
Они обнялись и расцеловались. Потом на виду у всех обменялись пистолетами — на жизнь и на смерть. Почти задыхаясь от суматошной полноты бытия, любя в этот миг друг друга и всех вокруг, с трепещущими, как струны, сердцами, они не знали ни страха, ни сомнений.
— Коль понадобится умереть, я умру с честью, — смеялся Ипполит.
Около часа дня под музыку оркестра и барабанную дробь восставший полк выступил из Василькова навстречу своему бессмертию.
На выходе из города у последних домов стоял, опираясь на посошок, древний житель. Он мелко-мелко крестил проходящие роты, бормоча себе под нос:
— Одолеть вам супостатов, ребята. С богом! Эх, косточки христианские захрумкали.
Старик так понимал, что солдатики отправились воевать турка. Он бы и сам за ними поскакал, хоть на одной ноге, да силенок у бедняги осталось только доплестись до печи.