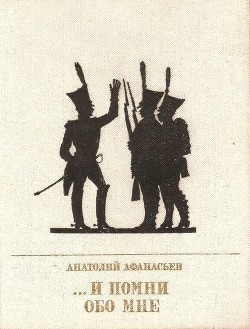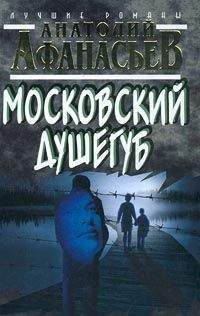— Все, все знаю, дорогой мой мальчик! И душевно сострадаю. Вы начали слишком рано. О поверьте, я говорю от чистого сердца. Мне плакать хочется, когда я вижу, как бессмысленно погибают такие молодые люди, как вы. Но еще больше мне жаль Сергея Ивановича. Это блестящий офицер и умнейший, благороднейший человек… Ради него я готов выполнить любую вашу просьбу, если это будет в моих силах. Учтите, для вас, видимо, это последняя возможность!
— Мне не о чем просить.
— Тогда пойдемте!
Они вернулись в гостиную, и тут князь начал допрос. Вопросы он задавал уже совсем другим тоном, сурово, требовательно. Зачем приехал в Киев? Какие поручения Муравьева должен был выполнить? Почему торопился уехать?
— Я уже объяснил господам жандармам, что мой конь испугался шума и огней и понес. Я чуть не сломал себе шею.
Трухин больше не мог сдерживаться. Его пьяная душа взъярилась.
— Злодей! — заревел он. — Он все врет, ваше высокопревосходительство! Они вместе с Сухиновым хотели убить меня на гауптвахте. Сухинов у них главный заводила, а этот его помощник и друг. Только видя мою непоколебимость, они затрепетали и сбежали прочь, подобно воющим от страха псам. Пусть признается, где сейчас Сухинов!
Адъютант Павлов тоже подлил масла в огонь, сообщив, что именно Мозалевский и Сухинов рыскали во Василькову с целью лишить его жизни. По словам Трухина и Павлова, выходило, что главной целью восстания, может быть, и было укокошить сих двух героев.
— Что же, голубчик, придется вас обыскать! — объявил князь. Трухин с готовностью кинулся исполнять приказание. Он так энергично старался, что оборвал на куртке Мозалевского две пуговицы.
— Как умело вы это делаете, майор! — сказал ему Мозалевский.
Трухин при обыске ничего не обнаружил. Мозалевский очень устал и хотел спать. Князь распорядился отправить его под арест.
Саша Мозалевский, милый фантазер, одним из первых среди восставших черниговцев отхлебнул из горькой чаши неволи.
Сергей Муравьев-Апостол не был мечтателем. Но не был он и человеком действия. По складу ума скорее ученый, чем организатор, он часто сомневался в собственных оценках и планах. Деликатная душа его легко поддавалась влиянию близких людей. А самыми близкими к нему в те дни были Бестужев-Рюмин, восторженный юноша с сердцем воина и впечатлительностью поэта, и брат Матвей, человек суровый, гордый, полностью сосредоточенный на нравственной подоплеке событий. Они тянули его каждый в свою сторону, и, вынужденный убеждать их в своей правоте, он сам до какой-то степени попадал под их влияние.
Верил ли Муравьев хоть в малую вероятность успеха? Надо полагать, иногда верил, иногда не очень. Да и вера его была похожа на инстинктивную надежду обреченного больного на исцеление. Слишком многое должно было произойти как бы по мановению волшебной палочки, либо в случае «благоприятного стечения обстоятельств».
Наверное, одной из главных причин неудачи восстания были разногласия в «главном штабе» полка, в его «мыслительном центре», куда кроме братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина входили четверо офицеров-славян: Сухинов, Кузьмин, Соловьев и Щепилло. Каждый из этих людей сознавал, что коли восстание началось, то споры уже неуместны, более того, губительны; необходимо единоначалие. И все же, хотя никто не сомневался, что только один человек может возглавить поход, а именно Сергей Муравьев-Апостол, споры продолжались бесконечно и порой приобретали неприятный оттенок раздора.
Сергей Иванович мыслил глубоко, по-государственному. Он пытался прозреть будущее, оттуда почерпнуть надежду. Сегодняшний день был темен, зато там, далеко впереди, он видел войсковые соединения, двигающиеся со всех сторон на Москву и Петербург, берущие их в клещи; слышал последние мольбы Николая о помощи, обращенные хотя бы к Ермолову, контролирующему Кавказ, тщетные мольбы; видел арест Константина в Польше и, наконец, низложение императора. «Сбудется ли?» — сумрачно думал Муравьев и сразу ненадолго, как в целительный сон, погружался в свою мечту о великой Российской республике. Этот план, обозначенный в его мыслях, может быть, нечетко, пунктирно, в котором он главные роли распределял между членами тайного общества, был, если можно так сказать, стратегическим планом. Сегодняшняя реальность, как он ее понимал, заставляла его придерживаться тактики выжидательной. Он понимал, что с теми силами, которые сейчас под его началом, идти в наступление бессмысленно. Он искренне надеялся, что полки, которые выступят против него, непременно перейдут на его сторону. И у него были веские основания надеяться, ибо среди офицеров этих полков было много южан. Отречение Артамона Муравьева, а значит, потеря ахтырских гусар не убили в нем надежду и веру. Каждую минуту он ожидал хороших известий, нервы его были напряжены до предела, он почти не спал ночами.
Славяне были настроены решительно. Они требовали немедленного выступления на Киев. Они говорили, что только быстрота и внезапность могут привести их к победе. Взятие Киева — это половина успеха. Взятие Киева покажет их силу и заставит колеблющихся принять решение. В их доводах был свой резон. Операция могла оказаться успешной, если учесть то, что в Киеве стоял Курский пехотный полк, с некоторыми офицерами которого Сергей Иванович имел давнюю договоренность и который, скорее всего, к ним присоединится. Кроме того, можно было рассчитывать на артиллерийских офицеров, находившихся при арсенале, единомышленников-славян, приятелей Андреевича.
Вопрос тактики восстания и был камнем преткновения между южанами и славянами.
Много ли было в планах декабристов фантасмагорического, несбыточного? Конечно, много. Почти все. Любой современный ученый, да что там — любой добросовестный студент, опираясь на исторический материализм и политэкономию, легко докажет заведомую обреченность восстания декабристов. Иной мечтатель, грустя, сравнит их отчаянное выступление с подвигом Данко, вырвавшим собственное сердце, чтобы осветить дорогу людям.
А вдруг не правы ни ученый, ни мечтатель?
Декабристы были молоды большей частью, но не были безумны. Они не собирались устраивать массовое ритуальное самоубийство в восточном духе, хотя так называемое «героическое самоубийство» не исключалось ими как элемент тактики. Именно о таком самоубийстве подумывал в горестные минуты Матвей Муравьев.
У них были реальные планы. Другое дело, что планы эти не сбылись. Но все же, все же, все же… — как сказал совсем в иное время и о других событиях, тяжело сострадая, поэт.
Вечером ужинали у Муравьева. В Мотовиловку пришли в сумерках, но никто еще толком не присел. Пока размещались по квартирам, устраивались, последний день года померк, отцвел, иссяк. Муравьев все эти суматошные часы находился в ровном меланхолическом настроении, и даже уход гренадерской роты капитана Козлова его не обескуражил. Выйдя к роте, он сразу увидел, что солдаты мнутся, отворачиваются. Муравьев им сказал:
— Я никого силой не задерживаю. Хотите разделить с товарищами подвиг и славу, оставайтесь, не хотите — ступайте с миром. Вы свободные люди, как и всякий, кто ступил под наши знамена.
Щепилло нашел Сухинова и тому нажаловался. Сухинов как раз урезонивал какого-то унтера с тремя солдатами, вознамерившимися свежевать ворованного поросенка. Велел унтеру собственноручно вернуть поросенка хозяевам, сказав ему мирно напоследок:
— Вторично тебя, братец, поймаю — убью! Возьму лишний грех на душу, ты уж не обессудь.
Приятеля Сухинов выслушал с сочувствием, но осуждать действий Муравьева не стал.
— Сергею Ивановичу виднее. А с Козловым мы после посчитаемся… Ты погляди лучше, Миша, как нас крестьяне встретили, лапотники эти. Как родных ведь встретили. Ни в чем отказа нет. Значит, есть у них понимание!
У Муравьева вечером собрались почти все офицеры, было много еды, закусок разных, солений, в основном из запасов местного помещика. Тот угощал щедро, и было похоже, что сочувствует.