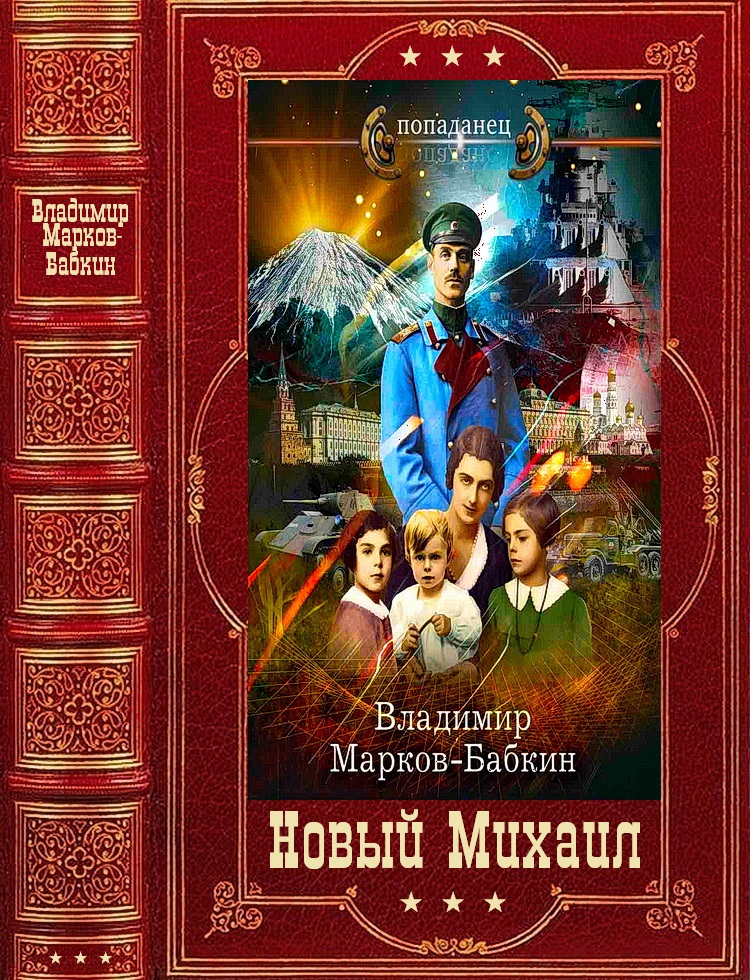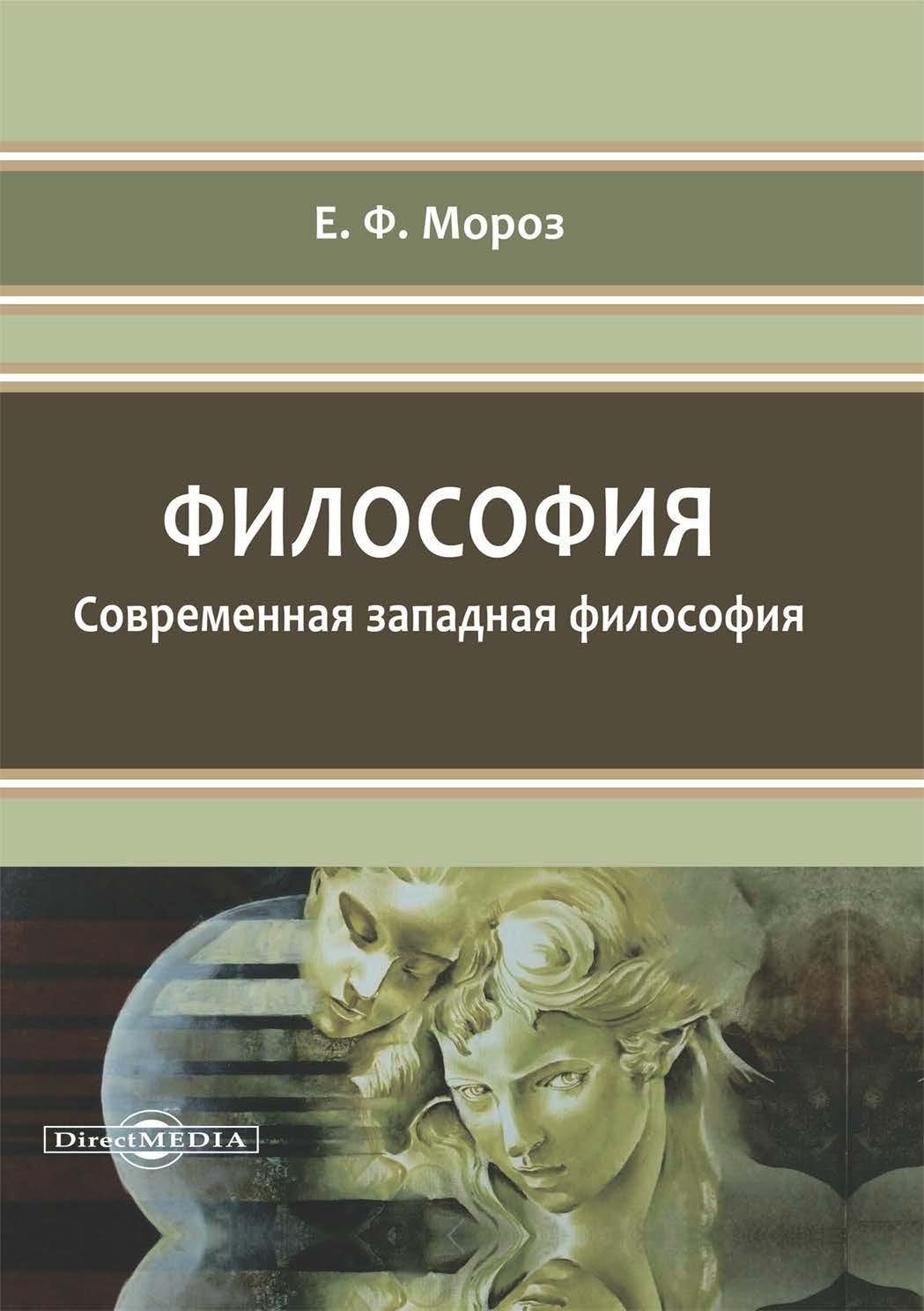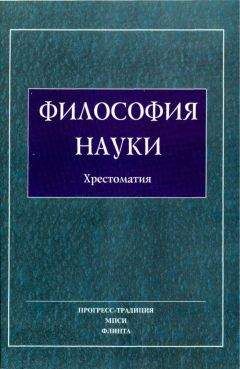чем я, и не воспылала бы большей ненавистью к твоим обидчикам! Увы! Что такое добро и что такое зло! Быть может, это проявления одной и той же неутолимой страсти к совершенству, которого мы пытаемся достичь любой ценой, не отвергая даже самых безумных средств, и каждая попытка заканчивается, к нашей ярости, признанием собственного бессилия. Или все-таки это вещи разные? Нет… меня куда больше устраивает единосущность, а иначе что станется со мною, когда пробьет час последнего суда! Прости меня, дитя, вот пред твоими чистыми, безгрешными очами стоит тот, кто ломал тебе кости и сдирал твою кожу, – она так и висит на тебе лохмотьями. Бред ли больного рассудка или некий неподвластный воле глухой инстинкт – такой же, как у раздирающего клювом добычу орла, – толкнули меня на это злодеяние? Не знаю, но только я и сам страдал не меньше того, кого мучил! Прости, прости меня, дитя! Я бы хотел, чтобы, окончив срок земной жизни, мы с тобою, соединив уста с устами и слившись воедино, пребывали в вечности. Но нет, тогда я не понес бы заслуженного наказанья. Пусть лучше так: ногтями и зубами ты станешь разрывать мне плоть – и эта пытка будет длиться вечно. А я для совершения сей искупительной жертвы украшу свое тело благоуханными гирляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты – от жалости ко мне. О светлокудрый отрок с кротким взором, поступишь ли так, как я сказал? Ты не хочешь, я знаю, но сделай это для облегчения моей совести». И вот, когда кончишь такую речь, получится, что ты не только надругался над человеком, но и заставил его проникнуться к тебе любовью – а слаще этого нет ничего на свете. Что же до мальчугана, ты можешь поместить его в больницу – ведь ему, калеке, не на что будет жить. И все еще станут превозносить твою доброту, а когда ты умрешь, к ногам твоей босоногой статуи со старческим лицом свалят целую груду лавровых венков и золотых медалей. О ты, чье имя не хочу упоминать на этих, посвященных восхваленью зла, страницах, я знаю, что до сих пор твое всепрощающее милосердие было безгранично, как вселенная. Но ты еще не знал меня! [39]
В этом отрывке есть и символы литературного тщеславия, такие как лавровый венок, и все стандартные речевые штампы, первые ассоциации. Вот эти пары, первая ассоциация, приходящая в голову: «наслаждение» – «букет/венок цветов», «детство» – «чистота», «украшение» – «гирлянда». Но последовательное проведение этого принципа первой ассоциации и позволяет заметить в венке похоронный венок, в чистоте – чистое, беспримесное зло, в гирлянде – роковую цепь всё нового зла. Лотреамон, в отличие от предшествующих романтиков, не изобретает никакой специальной символики зла вроде черного плаща или заброшенного замка – он находит зло в повседневности и оборотах привычной речи, бытового разговора.
Хосе Рой. Обложка Los cantos de Maldoror графа де Лотреамона. 1890
Мальдорор – богоборец и мститель: он мстит за то, что он сам глух к гармонии. Можно говорить и о его изъяне, травме, неспособности увидеть мир как живое целое. Но нужно признать его сверхчувствительность: любая фальшивая нота заставляет его видеть в мире сплошной обман.
В его богоборческих образах Творец оказывается злодеем, который создал вещи слишком индивидуальными, слишком личными и потому обрек их на страдания. Ведь если ты не похож на других – значит, у тебя не просто чего-то нет, но много чего нет, что есть у других. Ты обделен навсегда. Твоя жизнь постоянно обессмысливается и превращается в пытку зависти и обиды.
Для христианского святого индивидуальность каждого человека, напротив, подтверждает сложную симфонию замысла Творца. Но Мальдорор постоянно прослеживает, как из малого зла рождается большое зло. Из невозможности сотворить добро прямо здесь и сейчас, из-за нехватки сил и способностей рождается предательство, лицемерие, смирение перед чужим злом и, в конце концов, деградация общества.
Лирический герой Лотреамона рассуждает о современном городском обществе с постоянной снисходительностью ко злу. И он торопится объявить, что во всем якобы виноват Творец:
Лишь только слуха моего коснется голос – хотя бы даже серебристые колоратуры небесного сопрано, чистейшая гармония, изливающаяся из человеческих уст, – всё равно, бешеные языки пламени сей же миг начинают плясать перед глазами, оглушительная канонада – грохотать в ушах. Откуда эта исступленная ненависть ко всему человеческому? Будь те же созвучья извлечены из струн или клавиш – и я вожделенно ловил бы волшебные ноты, нанизанные, будто перлы, на мелодическую нить, что мерными извивами змеится по упругим воздушным волнам. По жилам разлилась бы сладкая истома, блаженный дурман усыпил бы волю и сковал мысли, подобно тому, как туманное марево застилает яркий свет солнца. Мне рассказывали, что я родился на свет глухим. В плену у глухоты прошли мои первые годы, так что я не слыхал человеческой речи. Правда, говорить меня научили, хотя и с большим трудом; но, чтобы понять собеседника, я должен был прочитать то, что он напишет мне на бумаге, и только тогда мог ответить. Так было, пока не настал злосчастный день. К тому времени я уже достиг отроческого возраста, был чист, хорош собою и восхищал всех умом и добросердечием. Ясное лицо мое отражало свет непорочной души и приводило в смущение тех, у кого запятнана совесть. С благоговением взирали на меня люди, ибо моими глазами на них глядел ангел. Однако же я знал, что не всегда мое чело, что так любили с материнской нежностью лобзать все женщины, будет увито цветами юности – они завянут вместе с быстротечною весною жизни. Порою даже мне приходило на ум, что этот мир и этот купол неба, усеянный дразняще недоступными звездами, быть может, не столь и совершенны, как мне мнилось. И вот настал злосчастный день. Однажды, устав карабкаться по кручам и плутать, утратив правый путь в темных лабиринтах жизни, я поднял истомленные, с кругами синевы, глаза на вечный небосвод – я, юнец, дерзнул проникнуть в тайны вселенной. Но взор мой встретил пустоту. Объятый ужасом и дрожью, я заглядывал всё глубже, глубже и наконец увидел… Увидел весь покрытый золотом трон из человеческого кала, а на нем с ухмылкою самодовольного кретина и облаченный в саван из замаранных больничных простынь восседал тот, кто величает себя Творцом! Сжимая в руке гниющий труп без рук и ног, он подносил его поочередно к глазам, и к носу, и ко рту –