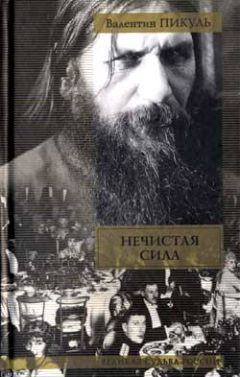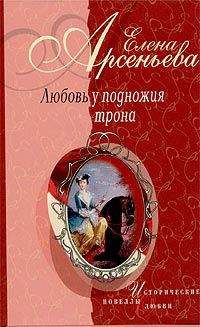– Скажи, что мы говорили об успехах русской авиации. В самом деле, летающие дредноуты Сикорского – самая модная тема.
– Она не поверит. До авиации ли нам сейчас!..
Романовы собрались вместе – сочиняли протест против преследования убийц Распутина; под протестом подписались семнадцать человек, и первой стояла подпись греческой королевы Ольги (родной тетки Николая II и бабушки великого князя Дмитрия). Прочтя это письмо, императрица была крайне возмущена:
– Ники, это же… революция в доме Романовых!
Николай II наложил на протест резолюцию: «УБИВАТЬ НИКОМУ НЕ ДАНО ПРАВО». Это случилось, когда распоряжение о ссылке Дмитрия и Юсупова уже состоялось. Великий князь Павел Александрович пришел к царю-племяннику – о милости для своего сына Дмитрия.
– Убивать никому не дано право! – повторил царь.
Эти слова в устах обагренного кровью царя прозвучали столь цинично, что Павел Александрович не выдержал.
– Да, – закричал он, разрыдавшись, – убивать никому не дано право, кроме тебя, помазанника божия, который тысячами подмахивал смертные приговоры между выпивкой и игрой на бильярде! Кто бы другой говорил об этом, но тебе лучше молчать!
В конце декабря историк Николай Михайлович посетил Яхт-клуб на Морской улице, самый аристократический и чопорный клуб столицы, где засел за партию в безик. Язык у царственного историка был совсем без костей, и он молотил вполне свободно:
– Первого января, как и заведено, все Романовы по традиции должны собраться в Зимнем дворце, где происходит акт целования руки императрицы. Меня там не будет в году семнадцатом! Пусть ручки этой стервы целуют рубинштейны и протопоповы… Вообще, господа, я, как историк, мыслю иными масштабами. Более крупными! Чувствую, что эта самая гидра, о которой столько болтали, но ее никогда не видели, уже дышит мне прямо в задницу…
Партнером его за игрой был любовник царицы – Саблин; через день историка вызвал министр двора граф Фредерикс:
– Передаю вам волю его величества. Если вам, как говорите, стало противно целовать руку ея императорского величества, то вам в столице более нечего делать… Возвращайтесь домой и ждите фельдъегеря с приказом ехать в ссылку.
– На какой же срок меня ссылают?
– На два месяца. Исторически – пустяк.
– Я вернусь в столицу раньше, – отвечал Н. М. Романов, – ибо и двух месяцев не пройдет, как престол, пардон, кувырнется.
– Откуда у вас такая уверенность?
– Из опыта истории, граф. Вам этого не понять…
В вагоне поезда он встретил думского Шульгина и Терещенко, элегантного миллионера с клоком седых волос на лбу.
– Скоро все лопнет, – сказал Шульгин.
– Цареубийство неотвратимо, – добавил Терещенко.
– Но я люблю этого сукина сына… царя! – воскликнул историк, отправленный царем в ссылку. – Очевидно, люблю только по рикошету за то, что у него умная и хорошая мать…
В Киеве он повидался с нею. Гневная сказала:
– Глупцы! Начали хорошо, а потом бросили. Надо докончить истребление всех, кто окружает моего сына. Я не умру спокойно, пока не увижу Ники в разводе с этой гессенской психопаткой, место которой в келье… в темнице… за решеткой!
* * *
…После революции Николай Михайлович, уже с красным бантом поверх сюртука, первым делом посетил тот погреб в юсуповском дворце, где убивали Распутина; он никак не ожидал встретить здесь молодых супругов Юсуповых – Ирину и Феликса, которые как ни в чем не бывало обедали средь антуража, еще хранившего следы плохо замытой крови.
– Феликс, а тебе никогда не снится Распутин?
– Нет, – ответил князь, а Ирина добавила:
– Господи, еще чего не хватало нам, так это видеть Распутина во сне… У нас с Феликсом немало других мотивов для ночных сновидений.
Они обедали с прекрасным молодым аппетитом, и оба были красивые энергичные люди, вполне довольные своей жизнью.
Мы забыли про Курлова! А он сказал Белецкому:
– Не так пляшешь, Степан: танцевать нужно от Малой Невки, а ты уперся во дворец Юсуповых как баран в новые ворота…
Мостовой сторож в ночь на 17 декабря дрых в будке как суслик, и Курлов дал ему по зубам – в аванс на будущее, чтобы впредь по ночам не спал, а неустрашимо бодрствовал. Искать свидетелей негде. Возле Б.-Петровского моста – Старый Петровский дворец, напротив – дворец князей Белосельских-Белозерских, куда с наганом тоже не сунешься… Выручил случай! Неподалеку находилось убежище для престарелых служителей русской сцены, и ветеран муз, некто Струйский, издавна страдавший бессонницей, в ночь на 17 декабря сидел возле окна, бесцельно глядя на мост, и видел, как неизвестные сбросили с моста большой узел. Курлов нагрянул в дом ветеранов сцены со сворой прокуроров, сыщиков и жандармов; из несчастного свидетеля вытрясли душу, и он вспомнил все, вплоть до того, с какой стороны светила тогда луна… Наблюдения старого актера в сочетании с кровью на перилах моста подсказали Курлову, что делать дальше. Утром въезд и выезд моста перетянули веревками, нагнали массу городовых с пешнями, речная полиция с помощью невских рыбаков забрасывала в полыньи под мостом невод, приносивший наверх свежую корюшку, но зацепить сетью Распутина не могли. Тогда под воду ушли флотские водолазы, которые долго ползали по грунту, потом сказали:
– Кой хрен! Ежели здеся кого и утопили, так течение – не приведи бог, его прямо в море будто щепку вынесло…
Разломать лед от стрелки Васильевского острова до самого Кронштадта царь не решился (хотя слухи об этом ходили). Распутина нашли случайно и даже не там, где искали. Один городовой, отойдя в сторону от моста саженей на тридцать, заметил торчащий из-под снега мех; потянул – рукав шубы. Здесь же, возле шубы, нашли и Распутина, которого из проруби течением подогнало под лед, в толщу этого льда он и врос – намертво! Курлов велел вырубить его изо льда – одной глыбой, внутри которой он и виднелся, словно доисторическая муха, застывшая в куске древнего янтаря. Потом эту глыбу льда городовые аккуратно обкалывали со всех сторон, словно скульпторы, приступающие к первичной обработке камня. В присутствии полицейского врача Тувима убитого освободили от штофных занавесей, в которые он был завернут.
Курлов снял с головы папаху и сказал:
– Ну вот, Ефимыч, и повидались… мое почтеньице!
* * *
Распутин был страшен… Помимо множества ран на теле, череп его был разрушен гирей, один глаз вытек, нос всмятку, борода примерзла к груди. К тому же он так закоченел, что буквально позванивал на морозе как стекляшка. Между тем слух об этой находке уже распространился средь его поклонниц, к берегу Малой Невки стали спускаться дамы с кувшинами и бутылками, чтобы зачерпнуть воды, которая, обмыв в себе Распутина, сделалась «освященной»… Возле моста собралась масса карет и автомобилей столичной знати, которую даже близко не подпускали. Курлов допустил к Распутину лишь полицейских фоторепортеров, которые нащелкали с трупа множество снимков (сначала в одежде, потом голого). Курлов из рядов оцепления отобрал четырех солдат с оружием, которым – наедине – строжайше внушил:
– Если проболтаетесь о том, что увидите, пусть даже родной матери, пусть даже начальству, все четверо будете преданы военно-полевому суду… Расстрел! – заключил он, с подозрением поглядывая на одного из солдат, и верный глаз жандарма не обманул Курлова (это был доброволец из студентов по фамилий Пирамидов, который позже и рассказал многие подробности)…
Обо всем происходящем возле моста Курлов телефонировал в Царское Село, а действовал лишь по указаниям императрицы. Сейчас он медлил, явно затягивая время. Только с наступлением сумерек подали грузовик, в кузов запихнули два узла – один с Распутиным и его вещами, в другом была куча задубенелых от мороза тулупов, присланных из Царского Села для отогревания. Курлов переоделся в шинель солдата, взял в руки винтовку, а шоферу указал запутанный маршрут, дабы избежать проезда по многолюдным улицам. Было совсем уже темно, когда грузовик тронулся, а куда ехали – никто не знал. Курлов уселся на один из узлов, но тут же спохватился: «У черт! Прямо на Гришку сел…» Жандарм перебрался на второй узел. А когда машина, миновав триумфальные Московские ворота, развернулась в сторону Инвалидного дома, студент Пирамидов (только тогда!) мстительно сказал генералу:
– Поздравляю: хорошо прокатились на Распутине.
– Быть того не может. Я нарочно и пересел.
– Нет, вы первый раз сели правильно…
Да, верно. Курлов узлы перепутал, и, пока машина пересчитывала ухабы, жандарм, подпрыгивая на узле, мощно трамбовал под собой своего ближайшего сподвижника. Ну ладно! Это не беда, а Гришке теперь уже не до того, кто там уселся на него сверху. Они прибыли на зловещее и унылое место в пяти верстах от столицы по дороге на Царское Село; здесь высился Чесменский дворец (при Екатерине II назывался «Кекерекексинен», что в переводе с чухонского означает: «Лягушачье болото», и лягушка фигурировала здесь в разных видах, украшая даже тарелки и туфли императрицы); теперь в этом замке размещалась богадельня для старых инвалидов… Грузовик остановился напротив часовни; на столе в покойницкой лежал старец инвалид с медалью «За сидение на Шипке»; Курлов смахнул его со стола, как мусор, и велел: