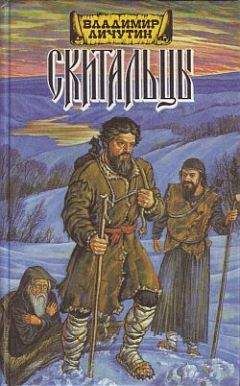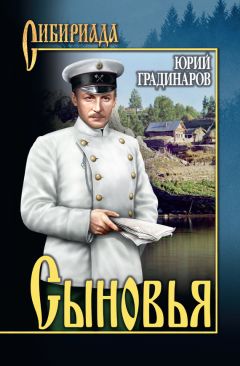И собрались монастырские старцы, и стали крепко думать: Феодосий, Геннадий, Варлаам, Иоасаф, Симеон, Трифон, Даниил, Мануил, Яким, Наум и Савастиан. Но не могли столковаться апостолы, всем ли разом принять огненную купель иль самым стойким гореть, огнем кончатися, остальным же, малодушным и мирским (отрокам и отроковицам и кто в самом соку из мужеска и женска пола), растечься по земле по матери и где-то снова однажды скопиться с новой силой и иным разумом. Елизарий же сбивался к мысли, что негоже бы силой принуждать к кончине, и все на юродицу Иринью показывал. Та бегала под окнами Учителева дома и кричала: дескать, не хочу гореть со всеми. Не буду, вопит, гореть, я не трава и не дрова, чтобы поленом гореть. Какою странной прозорливостью владеет юродица. Еще на соборе не решено, к какому концу вести Беловодье, а монашке святым духом уже все нашептано, и она трепещет неведомо отчего и мечется по монастырю, разнося смуту.
Одноглазый же апостол Геннадий настаивал вкупе гореть, пылать одним факелом: как жили согласно в счастии, так одним дружным кораблем и пуститься в бесконечное плавание. Знать, Богу было угодно, чтоб жили мы прежде особно, так неужли мы позволим, чтобы после нас обнищавший, покинутый беловодец сидел бы в неволе в оковах, с кедровою плахой на шее и чтоб всякий мог надсмеяться над ним и плюнуть в лицо. Эта опаска особенно сильно подействовала на прочих старцев, и впали они в печаль, как бы каждый из них вдруг узрел себя в горсти у ката, быть может, и на дыбе иль под кнутовьем, когда кожа с тебя слезает чулком, как с ошпаренного. Ой-ой-ой... Так ясно нарисовалось будущее положение, хоть вроде бы никто прежде дыбы не пробовал и под плетью смертно не маялся. Но каждый представил грядущую казнь и устрашился ею до телесного холода; а когда забоялись будущей жизни, то и нестерпимо пожалели своих близких, кто допрежь счастливо жил, опершись духом на монастырскую стену. Ой дети вы наши, дети, да как мы вас кинем во сиротстве? Будут вас в мялке мять, в жерновах катать, и уши-то вам обрежут, и носы обкорнают, да в эдаком-то шутовском виде и пустят по Руси, чтоб каждый на вас тыкал пальцем, вот, дескать, юроды идут, беловодские нехристи.
Долго бились, споря до хрипоты, никогда так нетерпимо они не схватывались прежде: не о себе пеклись, самим-то за счастье гореть, но жаль было тех, кто от их крови, от их семени пошел. Корень-то свой выжечь, дак будто и не являться на свет. А если паствы не станет на земле на матери, так нужен ли пастырь? Куда Бога-то деть тогда? Лишь апостол Геннадий в постриге с семи лет, и голос крови не тревожил его. Вся заскорбевшая, постоянно ознобленная кожа его изношенного тела так скучала по теплу, что огонь сожжения уже чудился праздником. Одно тайно смущало Геннадия: сможет ли его душа взмыть свободною птицей, иль она устало потянется в занебесье, облепленная грузом чужих немощей? Стеснится народишко, скучится, взвоет – и разом пропадет праздник. И Елизарий поистратился духом, плоти в нем слишком много. Широкому в кости, мясному человеку невмочно гореть, жди, когда-то сердечко лопнет. Апостол Геннадий пошире разлепил глаз с бородавкою на верхнем веке и, постепенно озирая Учителя, пожалел его. И кривого старца осенило вдруг: ведь они, апостолы великого собора, собравшиеся ныне, не знают, оказывается, природного девства, их род держит, излитое похотное семя мучит, они вервями связаны с землею, так куда же им лететь с такими путами? Стреноженную лошадь, как ни секи, как ни нажаривай по бокам, она не кинется наметом, но запрыгает, будто старая ворона. А он, апостол Геннадий, воспарит ко Христу и за его Престолом первым встанет.
Всесильный от сердечного торжества, внезапно воспылавший гордынею, апостол Геннадий вдруг позабыл о преклонной старости своей и решил приказать Учителю, дескать, покинь ты нас и уединись, а мы возвестим нашу волю народу. Но не успел старец возвыситься, как ударил набат. Царев колокол на монастырской церкви широко загремел, разлился, звонарь шально метался на вервях, таскал медные языки, и в лад ему, с некоторым испугом и опаскою, подыграли звоны на угловых башнях.
Апостолы поспешили на крепостную стену, а там уж народ. Глянь, от старинных гарей, где прежде жита высевали, наехал чужой обоз. Серая стая обметала противный берег, грязня январский снег, а после нерешительно сползла с кряжа на лед, норовя к острову. Оружные миряне приникли к бойницам, любопытство на их лицах смешивалось со страхом. До сих пор не думалось, что к ним вдруг могут явиться чужие люди; и гостя-то чужого не хотелось, а тут враг подступил с худыми намерениями. Что стены противу чужого умысла? Долго ли удержат врата? Ибо против самых крепких замков есть ключи. И впервые, наверное, Учитель Елизарий испытал чувство беспомощности и озлобления. Предстояло обороняться, пролить чужую кровь, но никто не умел убивать. И хотя чужаки уже стояли под крепостью, но все еще не покидала надежда, что пришельцы образумятся, а попугав и видя, что с мирных людей никакого вреда нет, оставят Беловодье во спокое. Елизарий готов был согласиться и на выкуп, на долгую дань, только бы не биться на бранном поле. Вдруг лопнул воздух, словно ударили длинным кнутом, с воем пролетело ядро, взорвалось на монастырском подворье возле Учителева дома, снегом осыпало идолищ поганыих. Дети побежали смотреть на чудо, копоть пробовали на язык. У каменной бабы, глядящей на восход, оторвало левую грудь; рана была мясистого красного цвета и походила на спекшуюся кровавую язву.
От обоза отделились несколько конных казаков и с пиками наперевес поскакали к крепости, пробуя взять ее нахрапом. Но лошади скоро увязли, и казаки беспомощно встали, стреляя из винтовок. Они так и дожидались в снегу, пока, протаптывая дорогу, не подтянулась вся команда, оставив возы под берегом. Из второй пушчонки тоже пугнули для острастки, но беды не причинили. Воинский начальник вопил и грозился, приставивши ладони ко рту, махал смушковой черной папахою, но посадская стена не отзывалась на крики, выглядела безлюдною. Спешились. Сумароков приказал брать городище приступом и не медля, требовал до ночи захватить бунтовщиков. Им овладели воинский азарт и горячка. Казаки подтащили лестницы, полезли на стену и неловкостью своей изрядно позабавили обозников. Вдруг со стены грянуло шумно и бестолково, казаки посыпались с лестниц и побежали. Сумароков гарцевал на коне и лупил плетью, кто попадался под руку. Казаки остывали и со стыдом возвращались. Оказалось, со стен стреляли пыжами и вреда причинить не могли. Сумароков не знал, кого берет приступом, и то, что по войску стреляли пыжами, несколько смутило его и уязвило. Он приостыл, приказал команде дружно отойти в станы, разбили палатки, окружили лагерь возами, выставили караулы, боясь ночной вылазки. Березовский протопоп Мисаил увещевал Сумарокова скорбным, тихим голосом, просил не торопиться, не пороть горячку, но пойти на сговор; наставлял с наивозможной кротостью, но в душе, однако, пугался бешеного исправника, о коем ходили по Сибири бесчисленные легенды. Его бледный лихорадочный вид, измаянный долгою дорогой, и неспокойные навыкате глаза внушали священнику непроходящий трепет. Поговаривали, что в столице у исправника рука, и крепкая, и к губернатору он вхож, потому и не могут недовольные сбить его с седла.
Инок Авраам непрестанно молился в углу, его гибкое юношеское тело таяло в поклонах. От инока пахло проказою, но протопоп лишь нынче вдруг почуял, как смердит от пленника.
«Господи, как слаб человек», – подумал священник, тайно презирая иуду. Хотя и там, за монастырской стеною, тоже таились отступники, бежавшие от веры и царя, но то были стойкие прелестники, внушавшие уважение. Потому хотелось поглядеть на них в натуре, полюбопытствовать на их устройство жизни, такое соблазнительное для черни. Хоть бы образумились, не поддались гордыне низкие люди, склонились пред царевым войском: плетью обуха не перешибешь. Раньше-то думалось, что Беловодье – это сказка, забава блудного люда, ленивого до работы, неясный больной вымысел ведуна, прижившийся в суеверной толпе. «Но если есть на свете Беловодье, то закоим Бог?» – вдруг усомнился протопоп и невольно покраснел, поглядел на исправника. Тот лежал на походной кровати и, бездумно уставившись в потолок, дымил трубкой.
– Никита Северьяныч, – попросил священник, – попробуем-ка мы пойти на сговор. Авось Бог еще не совсем покинул этих пустоголовых. Для острастки пужнули, а теперь бы погодить.
Сумароков лениво скосил глаза и не ответил. Он размышлял о грядущем дне, ему хотелось шума, грохота и какой-нибудь проказы. На выдумки он был большой мастак.
И поутру отправились на уговор березовский протопоп Мисаил и начальник Сумароков. Сумароков успокоился, сейчас был зорок. Он увидел высокие островерхие копны сена с нахлобученными шапками снега, и в нем тут же созрел умысел. Впереди шел казак, денщик исправника, и помахивал белой тряпкой, наколотой на тесак. Встали близ стены, на ружейный выстрел, и протопоп невольно поежился, глядя на узкие бойницы с просверками чужих неразличимых лиц. Ясно, что за ними следили и выжидали, но белесая, заиндевелая стена из кедровых толстенных палей была миролюбивой и не таила угрозы. Но вот угловые звонницы дали тихий печальный благовест, открылась узкая невидимая дверка, и оттуда вышел старец Геннадий, а чуть погодя и Учитель Елизарий. Они были в белом грубом одеянии, в белых же куколях с нашитыми золотистого цвета крестами. И началась долгая, утомительная словесная пря. Одни домогались открыть ворота, другие упирались, стояли на своем. Сумароков, видя бесполезность своих усилий, отошел в сторону, с хитрым любопытством наблюдая крепость и высыпавший на стены люд. Его, однако, не покидало ощущение долгого сна, какой-то болезненной напасти, внезапно сковавшей все члены: вот однажды по хвори впал в дрему, обволокло спячкою голову, и тут пошли рисоваться всякие чудные картины, похожие на явь. Виданное ли дело, чтобы в пределах государства Российского, где каждая пядь земли запечатлена на межевых картах, вдруг обнаружился разбойничий посад со своей властью, со своими желаниями и прихотями. Значит, можно быть самому себе господином и не считаться с чужою волей? Ежели я чего возмечтал особенно иль чего-то благоприятного себе хочу в ущерб многим, то могу, значит, всем пойти насупротив. И не болезнь то моя, но обыкновенное положение сильного человека.