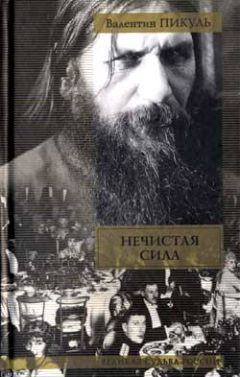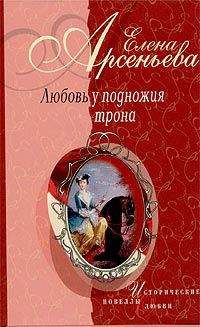– Ты вот сбежал, меня бросил, – упрекала она мужа, – а к нам ворвались солдаты, искали тебя, распороли штыками всю обивку на диванах и креслах. Хорошо, что не убили.
– Откуда ты звонишь?
– Мог бы и сам догадаться, что меня приютил твой брат Сергей на Калашниковской набережной…
На Литейном министр (еще министр!) видел, что казаки, посланные для усмирения восставших, лениво крутили цигарки в седлах. Если кто из них ронял пику, прохожие поднимали ее и дружелюбно подавали казаку. На углу Некрасовской, оскалив красные от крови зубы, лежал убитый жандарм… Стрельба, пение, оркестры!
Протопопов решил укрыться в Мариинском дворце; тут его поймал на телефоне градоначальник Балк, сказавший, что сопротивление немыслимо – он с отрядом конных стражников пробьется в Царское Село, чтобы там охранять императорскую семью.
– На ваше усмотрение, – отвечал Протопопов.
В грохот оркестров вмешивалась трескучая дробь пулеметов, расставленных на крышах. Мертвые на улицах стали так же привычны, как свежая булочка к утреннему чаю… Голицын сказал:
– Александр Дмитриевич, ваше имя раздражает толпу. Простите, но вы должны покинуть нас… нужна благородная жертва!
Покидать Мариинский дворец, где был отличный буфет, где от калориферов разливалось приятное тепло, было страшно. Протопопов забрел в кабинет Госконтроля, в мрачной и темной глубине которого ничего не делал госконтролер Крыжановский.
– Можно я посижу у вас? – спросил робко.
Ну, не гнать же его в три шеи.
– Посидите, – отвечал Крыжановский. – Только недолго. А то вас уже ищут. Вас и вашего товарища Курлова.
Потом спросил, где он собирается ночевать.
– Не знаю. Мой дом разбит. А к брату идти боюсь.
Контролер дал ему адрес: Офицерская, дом № 7. Протопопов снял пенсне и поднял воротник пальто, чтобы не быть узнанным. Возле Максимилиановской лечебницы со звоном распались стекла витрин, шустрая бабка в валенках шагнула в магазин через окна, будто в двери. Протопопов сунулся в подъезд № 7 по Офицерской, но швейцар накостылял министру внутренних дел по шее.
– Проваливай! Ходют здеся всякие… шпана поганая!
«Бреду обратно, – писал Протопопов, – через площадь к Николаевскому мосту – не пускают. Я думал пройти на Петербургскую сторону, Б. пр., д. № 74, к своей докторше Дембо. Перешел Неву по льду… через Биржевой не пускают, через Тучков тоже, а по Александровскому проспекту – стрельба ружей и пулеметов. Вернулся к Мариинскому дворцу…»
– Это опять вы? – возмутился Крыжановский. – Вам же сказано, что ваше присутствие в правительстве неуместно.
Протопопов заплакал и сказал, что с Офицерской его турнули. Крыжановский сунул ему адрес другого убежища: Мойка, дом № 72. «Я вновь вышел на улицу; толпа была еще велика, и масса вооруженных, даже мальчиков, стреляли зря – направо и налево и вверх. Дальше от площади по Мойке было сравнительно тихо… Идти было очень опасно, могли узнать, и тогда не знаю, остался ли бы я живым». Эту ночь он провел на чужом продавленном диване.
– Боженька, за что ты меня наказуешь?..
Утром Протопопову дали чаю и кусок черного хлеба. В передней он увидел на столике кургузую кепочку и спросил хозяев:
– Можно я возьму ее? А вам оставлю шляпу.
– Берите уж… ладно. Не обедняем.
Замаскировав себя под «демократа», министр внутренних дел вышел на улицы, управляемые пафосом революции. Он укрылся на Ямской у портного, который совсем недавно сшил для него дивный жандармский мундир, суженный в талии. От портного министр узнал, что Курлов уже арестован; газеты писали, что есть нужда в аресте Протопопова, но его нигде не сыскать, – всех знающих о его местопребывании просят сообщить в канцелярию Думы.
– Неужели же я грешнее всех? – спрашивал Протопопов.
При нем были ключи от несгораемого шкафа, в котором хранились секретные шифры, и была еще пачка полицейских фотографий, сделанных с мертвого Распутина в различных ракурсах тела. Протопопов умолял портного, чтобы послал свою девочку на Калашниковскую набережную с запискою к брату. Та вернулась с ответом. «Дурак! – писал брат Сергей. – Имей мужество сдаться…»
Портной плотно затворил за министром двери.
Стопы были направлены к Таврическому дворцу.
«Боже, что я чувствовал, проходя теперь, чужой и отверженный, к этому зданию… Господи, никто не знает путей, и не судьи мы сами жизни своей, грехов своих». Протопопов обратился к студенту с красной повязкой поверх рукава шинели; закатывая глаза к небу и слегка заикаясь, он сообщил юноше:
– А ведь я тот самый Протопопов…
– Ах, это вы? – закричал студент, вцепившись в искомого мертвой хваткой. – Товарищи, вот она – гидра реакции!
Было 11 часов вечера 28 февраля 1917 года.
Громадную толпу солдат и рабочих, готовых растерзать Протопопова, прорезал раскаленный истерический вопль:
– Не прикасаться к этому человеку!
Керенский спешил на выручку; очевидец вспоминал, что он «был бледен, глаза горели, рука поднята… Этой протянутой рукой он как бы резал толпу… Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. А между штыками я увидел тщедушную фигуру с совершенно затурканным, страшно съежившимся лицом… Я с трудом узнал Протопопова».
– Не сметь прикасаться к этому человеку!
Керенский возвещал об этом так, словно речь шла о прикосновении к прокаженному. Керенский кричал об «этом человеке», не называя его даже по имени, но всем видевшим Протопопова казалось, что это вовсе не человек, а какая-то серая зола давно затоптанных костров… Буквально вырвав своего бывшего коллегу по думской работе из рук разъяренной толпы, новоявленный диктатор повлек его за собой, словно жертву на заклание, крича:
– Именем революции… не прикасаться!
Он втащил Протопопова в павильон для арестованных. С размаху, еще не потеряв инерции стремительного движения, Керенский бухнулся в кресло так, что колени подскочили выше головы, и голосом, уже дружелюбным, сказал с удивительным радушием:
– Садитесь, Александр Дмитриевич… вы дома!
«Навьи чары», казалось, еще продолжаются: в уголке посиживает Курлов, вот и Комиссаров… Какие родные, милые лица.
– Ну, я пойду! – вскочил Керенский, выбегая…
К услугам арестованных на столе лежали папиросы, печенье и бумага с конвертами для писем родственникам. Слышался тихий плач и сморкание – это страдал Белецкий, общипанный и жалкий.
– Почему я не слушался своей жены? Бедная, несчастная женщина, она же говорила, что добром я не закончу… За эти годы я прочел столько книг о революциях, что мог бы и сам догадаться, что меня ждет в конце всех концов. Ах, глупая жизнь!..
Из угла павильона доносился могучий храп – это изволил почивать, сидя в кресле, сам Горемыкин, и его длинные усы колебались под дуновением зефира, вырывавшегося из раздутых ноздрей. Раньше он утверждал, что война его не касается; сейчас он демонстрировал равнодушие и к революции… Комиссаров сказал:
– Вот нервы, а? Позавидовать можно.
Зато министр финансов Барк напоминал удавленника: галстук болтался, как петля, из воротничка торчала одинокая запонка.
– А ведь могут и пришлепнуть, – высказался он.
Штюрмер аккуратно прочистил нос, заявил с апломбом:
– Гуманность, господа, это как раз то самое, чего никогда не хватало России… Будем взывать к гуманности судей!
– Паша, – сказал Протопопов, – пожалей ты меня.
Курлов волком глянул из-под густых бровей.
– Мы сажали, теперь сами сидим… И не ной!
– Но я же никому ничего дурного не сделал.
– Э, брось, Сашка! Хоть мне-то не трепись…
Под министром юстиции Добровольским вибрировал стул.
– Ну, да – играл! В баккара, в макао. Каюсь, долги в срок не возвращал. Но жена, но дети… Так в чем же я виноват?
– А я всегда был сторонником расширения гражданских прав, – отвечал ему Протопопов. – Теперь говорят, что я расставил по чердакам пулеметы… Господа, посмотрите на меня и представьте себе пулемет. Я и пулемет – мы не имеем ничего общего!
Была уже ночь. Отсветы костров блуждали по потолку павильона. «Приходил фельдфебель… подошел ко мне и почти в упор приставил к моей голове маузер; я не шелохнулся, глядя на него, рукой же показал на образ в углу. Тогда он положил револьвер в кобуру, поднял ногу и похлопал рукой по подошве…»
Протопопов затем спросил Курлова:
– Паша, а что должен означать этот жест?
– Догадайся сам. Не так уж это трудно…
Двери раскрылись, и в павильон охрана впихнула типа, у которого один глаз был широко распялен, а другой плотно зажмурен. Это предстал Манасевич-Мануйлов – в брюках гимназиста, доходящих ему до колен, а голову Ванечки украшала чиновничья фуражка с кокардой самого невинного ведомства империи – почтового!
– Пардон, – сказал он, шаркнув. – Но при чем же здесь я? Не скрою, что удивлен, обнаружив себя в обществе злостных реакционеров и угнетателей народного духа. Впрочем, о чем разговор?