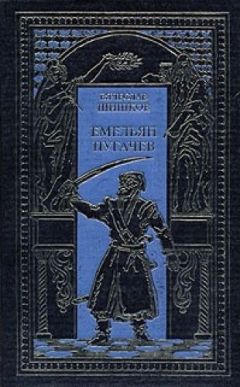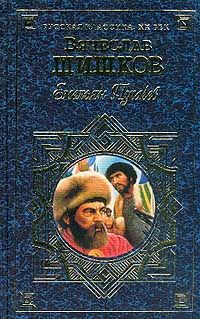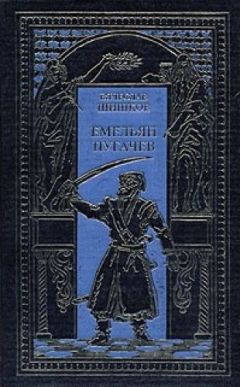Портрет сорвали со стены. Пыль, дохлые мухи, паутина, живой паук…
Живописец попросил государя, чтоб все ушли, не мешали бы. Пугачев оставил дежурного Давилина. Живописец раскрыл ящик с кистями и красками в стеклянных пузырьках, заткнутых деревянными пробками. Терпко запахло скипидаром и олифой. Покрыв портрет серым грунтом, бородач сказал:
— Ой, беда, многотрудно писать лик-то ваш, батюшка, зело много скорби в очах-то ваших светлых. А вторым делом, эвот, эвот какие складки меж бровей-то к челу идут, как у Николы Чудотворца — гневлив на неправду Христов угодник был, — говоря так, речистый живописец перетащил с Давилиным на середину канцелярии дубовую скамью. Давилин свернул втрое свой чекмень и положил под сиденье государя.
Тот сел, расчесал гребнем усы, бороду, приосанился, поправил высокую мерлушковую шапку. Давилин взломал кинжалом запертый кленовый шкаф, добыл голубоватые листы добротной бумаги. Иван Прохоров, близоруко прищуриваясь и оскаливая зубы, внимательно рассматривал лицо Пугачева и штрих за штрихом накладывал на бумагу очиненным липовым углем. Это был набросок, проба.
— Слышь, Прохоров? — сказал Пугачев. — А долго ль мне, как статуя, сидеть доведется?
— Да не столь долго, надежа-государь, прижухнет грунт скоренько, у меня средствия особые подмешаны… — откликнулся живописец и, чтоб развлечь батюшку, стал рассказывать: — За веру стражду, ваше величество. Из богоспасаемого града Воронежа от гонителей веры нашей бежать повелось страха ради. И даде мне приют всечестной старец Филарет, под единою кровлей обретаемся с ним вкупе.
Пугачев вновь встревожился.
— Сколь давно ты у него проживаешь-то?
— Да с весны, батюшка, с нынешней весны, с месяца мая. Старец-то в Казань меня спосылывал, к Щелокову-купцу. Таперичь в обрат вертаюсь. В Яицкий городок заезжал, а там, ведаешь, рабов Божьих нашей веры довольно. Да беда! В руки Симонова коменданта едва не угодил…
— Ах, наглец, изменник! — сказал Пугачев, отмахнувшись от мухи. — Не уйдет он от моей царской руки. Его да еще Крылова капитана со всем отродьем в петлю вздерну… Супротивление оказывали мне.
— Ну, вот таперичь, ваше величество, замрите, — прервал царя живописец, взял загрунтованный портрет Екатерины и, помолясь на восток двуперстием, приступил к делу. — Не ворочайтесь, батюшка, сидите смирно. Да не можно ли в пресветлые очи-то улыбочку пустить, а то горазд хмурый выйдете, батюшка…
— Благодарствую, пущу, — сказал Пугачев. Но как ни старался, не мог придать глазам веселость.
— Ах, ах! — сокрушался живописец. — Хошь морщинки-то по челу меж глаз как ни то разгладьте…
Портрет писался в напряженном молчании.
Были выписаны глаза да основные черты лица, все же остальное едва намечено.
— Сие распишу и без вашего усердного сидения, батюшка. Зело притомились, поди?
Пугачев действительно заскучал. Но сознание, что его пишут как царя, давало ему силы переносить скованность неволи…
— Ну вот, присмотритесь, ваше величество…
Пугачев подошел к портрету.
— Неужто я таков? Горазд грозен да немилостив…
— Сущий вы, батюшка, — что видело око мое, то и на холст положило, — потупясь, ответил живописец. — Взор царственный, вселяющий в души смертных немалый трепет, неправду людскую, аки огонь, сжигающий.
— Давилин, схож ли я?
— Капелька в капельку, ваше величество! Ежели бороду снять, на великого Петра Алексеича смахивать станете…
— На дедушку моего? Не врешь, так правда! — сказал Пугачев и вышел. Портрет ему не понравился. Он ожидал увидеть себя в славе и сиянии, с державой и скипетром в руках. И пожалел затраченное время.
…Через две недели портрет был в келье игумена Филарета. Кланяясь в ноги старцу, живописец восторженно говорил:
— Лик государя объявленного, Петра Федорыча, списал, великого заступника веры нашей…
— Покажь, покажь.
Живописец развязал портрет, упакованный в синюю набойчатую скатерть, и, как некую святыню, подал игумену. Тот долго всматривался в черты изображенного лица. Наконец воскликнул:
— Ай-ай-ай! Хоть и не больно схож, а он… Камо гряду от лица твоего? Аще взыду на гору, ты тамо еси; аще спущуся во ад, ты тамо еси… Вскую шаташася, — старец произносил слова эти каким-то загадочным голосом, а в его глубоких темных глазах поблескивали огоньки.
Живописец смущенно нашептывал старцу:
— В народе толкуют, атамана Портнова в Илецком городке вздернул царь-батюшка, Симонова собирается казни предать. Ну и грозен, грозен Петр Федорыч, радетель наш. А власти не признают его, за беглого казака Омельку Пугачева принимают, окаянные!
Филарет, как вошли в келью, сказал:
— Надлежит сему государеву портрету подписану быть. Мы умрем, а он останется на посмотренье людям.
Зная, что Иван Прохоров не горазд в грамоте, Филарет достал из-за божницы пузырек с чернилами, очинил гусиное перо и приготовился писать. Перед тем, не доверяя очам своим, он заглянул в пожелтевшую тетрадь с записями о событиях и встречах и на давней странице сыскал строки: «Сего числа имел беседу с забеглым казаком по имени Емельян Пугачев; нашей веры человек, но дик и странен, донос же попаляем в сиром звании своем гладом духа и проворством помышления».
Живописец, кланяясь в пояс, молвил:
— Ты, отче Филарет, пиши тако: сей-де лик пресветлого императора и государя Петра Федорыча Третьего, великого ревнителя веры нашей древлей, писан-де той же веры Иваном, сыном Прохоровым… в тысяча семьсот…
— Да уж не учи, знаю! — перебил его старец и оправил очки. Скорбно, про себя, в бороду улыбаясь, он на обратной стороне портрета вывел следующую надпись:
«Емельян Пугачев, родом из казацкой станицы, нашей православной веры, принадлежит той веры Ивану сыну Прохорову.
Писан лик сей 1773 года сентября 21 дня»[90].
Государя со свитой угощал обедом Иван Творогов. Перед началом трапезы, кланяясь, он сказал:
— Бью челом, хлебом да солью да третьей любовью, — и всем налил водки.
А государю поднесла чару на медном с эмалью персидском блюде сама Стеша. Красивая, рослая, румяная, с лукавым в глазах блеском, она была в лучшем наряде и походила на боярышню.
Но Пугачев, приняв чарку, хотя и положил на блюдо пять рублевиков, взглянул на Стешу равнодушно.
Обиженная Стеша горестно вздохнула, потупилась. А вот как ей хотелось, чтобы государь чокнулся с ней и при всех поцеловал ее. Неужли эта птичка остроносая, Устька Кузнецова, батюшку приворожила?
Все выпили в честь новой полковницы-хозяйки и полковника-хозяина, а когда Творогов взял бутыль, чтобы снова налить водки, Пугачев махнул рукой:
— Убрать! Негоже теперь.
Казаки переглянулись, бороды их печально повисли. За обедом был совет, куда назавтра путь держать. Решили двинуться к крепости Рассыпной.
— Оная крепостца махонькая, ваше величество, — сказал Творогов, покручивая кудрявую бородку. — Она по ту сторону Яика, по пути к Оренбургу. В полугоре стоит. Супротив нее киргиз-кайсаки вброд Яик переходят, народу пакости чинят.
— А кто там комендант и много ли воинской силы? — спросил Пугачев.
— Комендантом там майор Веловский. При нем полсотни оренбургских казаков да рота старых солдатишек.
— Не больно страшно, — сказал Пугачев. — Почиталин, напиши-ка им мой манифест. А где сержант Николаев? Пущай и он вместях с тобой работает, он поболее тебя учился-то.
Казаки опять переглянулись. Им не нравилось, что государь приближает к себе какое-то дворянское отродье.
Сержант Николаев без зова обедать с государем не посмел. Приближенные косятся на него, как на чужака, особенно Митька Лысов, а с ним заодно Давилин. К тому же душевное состояние сержанта было самое подавленное. Он сидел на земляном полу, жевал хлеб с маслом, глаза его застилались слезами.
С трепетом осматривал он последнюю судьбу свою. Предвидение своего трагического конца повергало его в трепет.
— Что я наделал, что наделал… Уж лучше бы быть мне повешенным, нежели изменником… — шептал сержант, но, взглянув на висевший труп казненного Портнова, судорожно передернул плечами. — Ну как мне быть? — уж в который раз безответно вопрошал он самого себя. — Бежать? За мной следят. Да и как явлюсь с обрезанной косой к полковнику Симонову. К тому же предатель-возница наверняка всем разболтал, как я кувыркался в ноги Пугачеву. А ежели остаться служить верой и правдой? Но кому служить? И чего эта толпа изменников хочет? Всех их ждет веревка с перекладиной… А вместе с ними и меня!
Он, двадцатипятилетний молодец, стиснул дрожавшие губы, голубые выпуклые глаза его засверкали; пристукнув кулаком в землю, сержант неожиданно для самого себя выкрикнул: