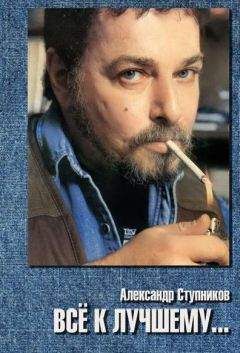И метель, мартовская, тридцатиградусная, крутила свою волынку на промерзлой дороге в двух часах езды до наших бараков. И ребята, захмелевшие от водки, вместе с монгольскими солдатами подпевали по-белорусски. Завывая от тоски по своему Ташкенту, Баку, Львову.
Нам было за что пить. Хотя мы и знали, что настоящие патриоты остались дома, в тепле, рядом с нашими девчонками и брошенными за тысячи километров матерями.
Так они нас учили Родину любить – издалека. И дружбе народов – на выживание.
– Берите, – цирики подкладывали в наши миски лучшие куски мяса и показывали свои фотографии из дома.- Баранину надо есть горячей. Баранина – как песня.
«А дзяўчына жыта жала…».
(МОНГОЛИЯ, 1976)
– Зря ты это, – повторил замполит и затянулся. То же самое мне сказал комбат, когда я отнес накануне рапорт.- Тебе что, у меня плохо? Половину отслужил. Пережди еще год спокойно и вернешься домой…
Но я настаивал. Ребята в штабе шепнули, что группу наших солдат, человек пятнадцать, должны отправлять куда-то обратно в Союз. Вот я и попросил включить меня в эту партию.
– Да мы отбираем самых ненужных, – сказал комбат. – Их в тюрьму надо, куда тебе с ними… Пойдете общим списком в Забайкалье или Сибирь. Стоит ли начинать службу заново? Подумай.
И сам комбат, и офицеры были у нас приличные. Не кричали, не унижали ребят, с палкой по утрам по казарме не бегали, как это потом было в России. Общая оторванность от большого мира заставляет людей быть и внимательнее, и осторожнее друг к другу.
– Я хочу ближе к дому.
В тот же вечер ко мне прибежали трое ребят.
– Это правда, что ты в списке? Слава Богу, а мы думали, вроде дисциплинарного батальона. В Монголии такого нет.
Мы запустили второй косячок по кругу, травили анекдоты, трепались о девчонках, которых не видели уже год, вообще никаких. Только в кино два раза в неделю. Телевизоров и радио у нас не было. Не было ничего. Кроме богатой, правда, прессы и желания пережить все это, чтобы вернуться.
– Красиво все-таки здесь, – сказал замполит, показав на громадное красное солнце, словно списанное с картин Рериха. Кто-то засмеялся, отрывисто и заразительно. Поймал «хи-хи».
– Хватит, не пережмите…- спохватился замполит.
Я прикрыл глаза и видел заходящее солнце, разложенное на ресницах по всем цветам насыщенной дрожащей радуги. И ножки, точеные женские ножки, все выше – и к небу, до округлого бедра облака. Ночью, прорываясь, кто-то рядом будет дрочить под одеялом, а «деды», старослужащие, по настроению, начнут поднимать роту и бить всех подряд, воя от тоски и бессилия. Меня, правда, обходили. Грамотных тогда уважали. Время невежд, на самом деле, придет намного позже.
А завтра нас посадят в грузовик, и начнется очередная иная жизнь. Хуже, чем эта. Но на тысячу или две километров ближе к дому. И с забором вокруг. А значит, будет куда стремиться. Свободы без ограды не чувствуешь. Так, степь да степь. В никуда. Как и люди.
О, если я забуду тебя, Монголия…
(МОНГОЛИЯ, 1976)
Два зеленых плацкартных железнодорожных вагона вместе с нами завезли в ноябре куда-то в глушь куцей беспородной тайги и оставили на рельсах. Я и сейчас не знаю, где мы были – в Забайкалье или в Якутии. Но мы были.
Мороз стоял адовый. Даже в ватных штанах поверх формы и в бушлатах работать получалось не более пятнадцати минут. Посменно. Родине нужен был наш бесплатный и бесполезный труд.
И мы долбили ломами мерзлую землю, отбивая при ударе только маленькие кусочки, отрезанные от целого, словно ломтики, глинозема. Похожие на нас.
Дело, понятно, не шло. Но никто нам и не мешал. Скорее всего, начальство просто пережидало, решая, куда отправить дальше. В одном вагоне все ребята были после Монголии. В соседнем – забайкальские.
Старший офицер приезжал откуда-то утром, торчал в вагончике и к вечеру убывал восвояси. Продукты и горячее привозили в бачках, а завтрак и ужин мы готовили сами. Свою ложку, главное личное имущество, каждый держал в голенище сапога. Казенных ложек в этом мире всегда меньше, чем ртов.
Но никто извне к нам и не лез. Некому. Где-то гнила, распускаясь, своя жизнь. А нам здесь было все равно. Мы считали дни до далекого дембеля. Какая разница, где отсчитывать время из одной клетки в другую, попросторней?
Все равно и в Монголии не было ни девчонок, ни домов, ни штатских, ни телевизора, ни радио. Там степь, работа и тоска за окном. Здесь тоска, работа и просторы с пролесками. Солдатчина…
По соседней действующей ветке проходили товарные поезда. Иногда они останавливались рядом. В них болтались цистерны с дешевым вином. Дежурный обязан был следить за этим. И порой ночью мы подскакивали от истошного крика:
– Рота, подъем!
Молодые, в хрустящих от холода гимнастерках, схватив рукавицы, чтоб не приклеиться на морозе, забирались на цистерны, ломиком вскрывали их и черпали вонючую кровавую жидкость ведром. Потом еще одним. Третьего, свободного, не было. И тогда из грязного выбрасывались лопаты, инструмент, и в ход шли слегка ополоснутые тем же народным пойлом рабочие ведра. Надо было успеть, пока поезд неожиданно не тронется дальше.
Потом алюминиевыми кружками мы пили прямо из ведра азербайджанский «Агдам» или иную гадость под разговоры ни о чем. Чаще – о том, что было и будет, когда мы вернемся.
Наутро те, кто из последнего призыва, помоложе, отмывали вагон, а приехавший офицер несильно орал, выгоняя нас на мороз, на работу, проветриться.
А что делать? Армия – это распорядок.
Однажды после такой ночи я не смог найти в кармане фотографию своей девушки, будущей жены. Выронил или вытащили. Она была снята крупным планом, а позади, с древком флага в руках, размыто маячил и я.
На последней перед отчислением из университета первомайской демонстрации к нам подошел какой-то активист, белесый и бесцветный, как лозунг, и грубо ткнул мне в руки знамя.
– Неси, таким положено.
В принципе, я тогда и сам бы взял. Но только вместе с наганом.
А фотография, самое ценное, что у меня оставалось, пропала. Мы с ребятами обыскали оба вагончика и ничего не нашли. Понятно, что исчезнуть здесь она не могла, некуда деваться.
И тогда «монголы» построили всех в проходе и приказали вывернуть карманы.
Фотография нашлась в… военном билете одного из «забайкальцев». Парню дали пару раз по морде в целях воспитания, чтоб не «крысятничал». Но я никак не мог понять, зачем ему красть и носить фотографию совсем чужой девушки. Что она ему?
– Чудак, – удивился размеренный Арно из Таллина, который шутил, что идет по следам своего деда, погибшего после войны в Сибири. – А еще в институте учился. Спроси у Гочи, он знает.
– Как тебе сказать?- начал Гоча из Грузии, посмеиваясь и приглашая поближе других ребят. – Нужна ему твоя девушка.
– Но зачем? Какой смысл?
– Простой, – пояснил Гоча, и парни вокруг хихикнули. – Неужели не понимаешь? Дрочить ему надо. На здоровье.
– А моя девушка здесь при чем?
– Глядя на фотку, приятней. Смотрит на нее и «качает». Тебя в институте этому не учили?
– Учили чему надо и сейчас учат, – буркнул я, вспыхнув.
И тоже засмеялся. В конце концов, только у меня через год службы оставались письма издалека, начинавшиеся со слова «любимый».
Смех покатился по вагону, тыкаясь светом в черные, как беспросветная власть, окна. Но мы тогда думали, что так и надо.
Фотка пошла по рукам. Как девчонки, которые нас не дождались.
Гоча, по случаю праздника обретения, вытащил заначенную резиновую грелку с домашней чачей, а Орест, из глубинки Карпат, сам вызвался организовать жареную картошку. Он уже немного говорил по-русски. Но в самом начале, еще в Монголии, ему доставалось из-за этого больше всех. Поначалу он стоял тогда, отмахиваясь, как загнанный бычок под тычками, со всех сторон и почти выл от бессилия, низко и протяжно:
– Мос-ка-ли…
Те «деды» ушли на дембель, а для нас он был свой.
И нам было весело – от молодости, скуки, повышенного давления стреляющей до подбородка спермы и похмельной тошноты в глотках одновременно.
До дембеля оставался еще целый год.
Один человек мне сказал, что армия – это священный долг.
– Аминь, – ответил я и подумал: «Родиться, раздать долги и умереть. А жить когда?».
(РОССИЯ, 1977)
Интересно, есть все-таки у человека ангел-хранитель? Или это просто так, Бужумбура? Столица Бурунди.
За три месяца до демобилизации я хорошо устроился в жизни. Мне носили обеды в постель, книги, меняли чистое белье, ласковая медсестричка баловала регулярными ночными дежурствами. Ко мне вернулась устойчивая, как утреннее солдатское пробуждение, вера в лучшее. Словно кто-то оберегал, давая отдохнуть и выспаться. Никто от меня ничего не хотел, а я тем более, считая оставшиеся до свободы дни.