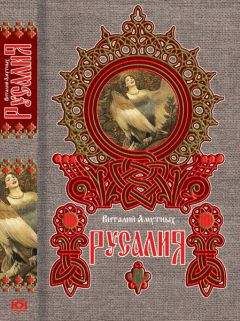— При чем же тут Ольга? — подскочив на ухабе, крякнула Серах.
— Мар-Саул и мар-Вениамин пишут, что было бы полезно породнить Русию и Куштантинию.
Единомыслию в таком союзе все равно не бывать, а значит, понадобится посредник. Если же мы впредь не станем гневить Бога внутренними распрями…
— Н-да-а… — очнулся Иехуда Писоне и смахнул со лба слепня. — Вряд ли эта мысль понравится нашему мэлэху. Впрочем… Впрочем, если столицей этой империи будет Итиль…
— Почему бы и нет? — подмигнул Иехуде Хапуш. — Но во всяком разе, если даже столь грандиозные замыслы пока не осуществимы, посредничество в таком деле несомненно принесет прибыток всем занятым в нем; и тем, перед кем окажутся в зависимости царские роды, и тем, кто самовластно станет контролировать все торговые пути, и даже самым маломощным из нас, кто теми путями пожелает воспользоваться.
Раскрасневшаяся жена Давида все ерзала на месте и пыталась вытереть плечами вспотевшие щеки:
— Однако, Нааман, греческая вера не допускает двоеженства, так?
— Серах, — ответ прозвучал не без едкости, — уж кто-кто, но ты никогда не была замечена в наивности. Завести вторую жену им вера не позволяет, а вот взять новую взамен безвременно преставившейся, — это у них сплошь и рядом. Среди их василевсов и август[114] ушедших в лучший мир естественным путем можно по пальцам пересчитать. Кстати, Ольга уже отписала багрянородному Константину письмо, из которого недвусмысленно следует, что она самолично готова принять христианскую веру, явив тем самым образчик всему русскому обществу, а василевсу — залог их дальнейших добрых отношений. Тут, согласитесь, можно усматривать ненавязчивый намек.
Здесь Нааман не смог не приосаниться, так как письма русская княгиня составляла под его недреманным оком, что не могло не бодрить в нем чувство собственного достоинства.
— Константину? — раздалось одновременно несколько голосов.
А Серах взяла на себя труд объяснить причину общего недоумения:
— Почему в таком случае Константину? Ведь на греческом престоле весьма уверенно восседает Роман Лакапин.
— Я, как посмотрю, — довольно ухмыльнулся Хапуш, — у вас там не просто рай, а какое-то сонное царство. От довольства, видать, у вас жиром-то и глаза, и уши заплыли. А мы здесь постоянно получаем известия и из нешивы[115] святого города Иерусалима, от главы академии Гордости Иакова — мар-Иессея, и из Македонии, и из франкской Павии от реб-Аарона — главы диаспоры. И все сейчас только о том и толкуют, что в Куштантинии вот-вот наступит время перемен (к которому кой-кого, может быть, стоит несколько подтолкнуть), а, поскольку всякие перемены, любое междуцарствие особенно хороши для разного рода выгодных предприятий — важно случай этот не упустить.
— Вот уж не знаю… — надменно скривил губы Эзра. — Хоть, как ты говоришь, мы живем в сонном царстве, тем не менее всем, кому это необходимо, известно, что Роман Лакапин оплатил все явные долги своих подданных, от самых знатных до самых нищих. Говорят даже, что он потратил на это девятнадцать кентинариев[116] золота. Под восторженные крики толпы он сжег все долговые обязательства.
— Да-да, — подключился Давид Шуллам, и, видимо, в качестве доказательства, что и он живет не в «сонном царстве», предложил свою информацию. — Так же, как три года назад, он вновь, совсем недавно, внес квартирные деньги за всех горожан. И вновь при торжественных выходах раздавал всем городским шлюхам по две серебряные монеты, навещал тюрьмы, и при том даровал каждому заключенному по три номисмы[117].
— А подаренные им золотошитые одежды и кубки монастырям Вараха, Афона, Олимпа и этого, как его… Патроса, — прибавила к словам мужа Серах. — Мне абсолютно достоверно известно, что сейчас он строит приют для стариков и…
— Если самодержец принимается строить приюты для стариков, больницы, ночлежки для нищих, — перебил ее Нааман, — значит дела его совсем плохи. Потому как заискивать перед плебсом, чтобы опереться на него, порфироносец начинает тогда, когда больше опереться не на кого. Но эта уловка крайне редко приводит к успеху. Чернь, несмотря на свою многочисленность, ленива и труслива, ибо задача их — плодиться и размножаться, и наполнять землю; деятельные порывы не для нее. Но мы уже приехали. Поэтому прежде, чем принять (или не принять) какие-то решения относительно предложений наших братьев из Куртубы, столицы Сефарада, давайте, подкрепим себя трапезой, какую сможет предложить мой скромный приют.
«Скромный приют» Наамана Хапуша, чтобы не заноситься перед княжеским теремом, может, и был пониже оного, зато в отделке, пожалуй, и превосходил его. Пять мужчин и одна женщина в драгоценных золототканых нарядах ступили с повозки на землю и направились к дому подкреплять себя трапезой, вероятно, скромной, ведь какой иной харч мог предложить «скромный приют»?
Округ горы Рода после ливня в день отъезда Добравы две недели стояла палительная сушь. А поскольку зерно в колосе успело достичь всего-то молочной спелости, отсутствие дождей у туземных землепашцев вызывало оправданную тревогу. Оттого-то три последние дня пришлось Богомилу совместно с поселянами провести в молениях о дожде, с птицеголовыми жезлами и ритуальными чашами-календарями[118] в руках обходя нивы, уж начинавшие подсыхать на пригорках.
Вокруг поля мы ходили, Рода окликали,
Рода окликали, Сущего величали;
Род ты наш батюшка, ты спаси наши пажити,
Дай дождь дождем, полей ковшом…
Впрочем величали не одного Рода, помянули и рогатого Велеса, и жену его Макошь, и Святовита-Белобога[119] со Светлушей[120], и Див-птицу[121] с супружницей[122], и Дажьбога, и Живу[123], и Купалу, и Переплута, и Зайца, и Ния на всякий случай.
Не смотря на то, что не было, наверное, на земле человека, неукоснительнее соблюдавшего предписанные Законом обряды, сам себе Богомил не смог бы сказать с определенностью, действительно ли это самолучший способ приемлемый в общении с Высшими силами. Должно быть, лучший, коль скоро именно его предложил Создатель сущего. Достославный волхв и не задумывался над тем, что сам он давно достиг той степени самосовершенства, когда область помышлений уже отказывается принимать то, что не касается Божественной сущности; а для людей, чье сознание растворено в сфере материальных проявлений Вседержителя, молитва, ее внешнее оформление, остаются единственным способом сосредоточить свое сознание на явлении менее употребимом их жизнью, чем редька и половые потехи.
Три дня всем миром возносили мольбы к самым различным образам, облегчающим низинному сознанию хоть как-то вообразить себе неясную и вместе с тем жестоко очевидную руководящую силу, и вот вчера, на третий день, к вечеру небе стало заволакивать мелкими частыми облачками, сливавшимися в неплотную, но обширную пелену, — ночью прошел небольшой дождь. Утро выдалось пасмурным, оставляя надежду на то, что щедрость свою небо явило еще не в том объеме, который решилось пока выставить. Поскольку огнеликий Хорс на какое-то время унял свою львиную природу, Богомил, как и многие другие, решил воспользоваться свежим сырым утром с тем, чтобы побороть нашествие нового полчища сорняков на свой крохотный огород и покончить еще с целым рядом хозяйственных хлопот, вечно отодвигаемых на потом.
Маленький домик Богомила находился прямо под горой Рода в отдалении от прочих жилищ. Был у него и огород, и овсяная нивка, и ржаная. Но все это было таким маленьким, что какой бы то ни было землероб, видя домашность достопочтенного облакопрогонителя, дивовался, как возможно обходиться такой малостью. А волхв утверждал, что и это Велесово достояние причиняет ему слишком много беспокойств, потому с этого года он решил отказаться от коровы и ограничиться парой коз.
Конечно, ему лучше было знать, что для него является избыточным в мире предметности, но даже сейчас, в тот момент, когда он вырывал из земли скользкую блестящую от росы поросль осота и порея, всем своим основанием Богомил находился в областях удаленных. Попутно он выдернул с грядки пару свекл себе на завтрак, и, покуда рассматривал еще слишком небольшие черно-лиловые утолщенные их корни, перед ним возник молодой хранильник Оргост.
— Утро прекрасно! — приветствовал он Богомила.
— Как все, что дарит нам Единый, — отвечал ему Богомил. — Ты пришел мне что-то сообщить или хочешь о чем-то просить?
Молодое лицо Оргоста выглядело каким-то желтоватым, что плохо сообразовывалось со свежестью утра, и на склерах его больших красивых глаз выступили красные прожилки. Он подслеповато огляделся и предложил: