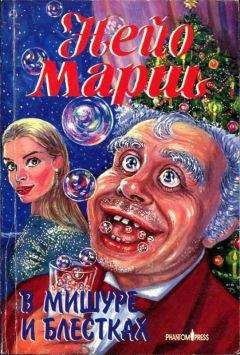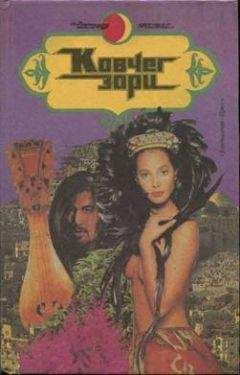Босой Али Джафар бесшумно прокрался по айвану к открытому окну той комнаты, где Омар, скрестив ноги и погрузившись в размышления, сидел над низким столиком с циркулем и линейкой поверх пестрых от вычислений бумажнь1х листов.
Нет, пожалуй, не следует ему мешать. Мысль — птица, спугнешь — не вернешь. Пусть думает, пишет. Он делает доброе дело. Будет порядок в казне — будет какой-то порядок в стране. И может, Али Джафар не останется до конца дней своих нищим дворником. Ему бы жениться, обзавестись домом, детьми, стать человеком. Он сам присмотрит за хитрым Юнусом.
Бегут за мигом миг и за весной весна;
Не проводи же их без песен и вина.
Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни, —
Как проведешь ее, так и пройдет она.
…Омар расправил затекшие ноги, вытянул их под столом, упал спиной на ковер, сомкнул руки под головой. О блаженство! Каждая жилка, получив иное натяжение, затрепетала от удовольствия. Все тело ноет. Будто палками весь избит. Трудно дышать. Все тело закостенело. И надсаженный мозг закостенел. И будто трещина в нем, как в ушибленной кости. На среднем пальце правой руки, на среднем суставе — мозоль от тростникового пера…
Которую ночь, который день тут сидит. Омар не мог бы сказать. В юности он не верил поразительному рассказу о Фердоуси, двадцать пять тяжких лет терпеливо трудившемуся над книгой. Но теперь-то он знал, что это не выдумка.
Хуже всякой хвори — писать! Своего рода запой. Наркомания. Начинал он, правда, в первые дни, полегоньку, с утра на свежую голову и, едва ощутив утомление, бросал перо, уходил бродить по городу. Ясность! Математика — ясность.
Но чем дальше проникал Хайям в дебри таинственных фигур и чисел, тем труднее ему становилось вернуться из этих дебрей. И, что странно, тем больше нарастала ясность. Однако она грозила уже внезапным помутнением. Мозг, постепенно освобождаясь от посторонних впечатлений, весь наполнился уравнениями и, отрешенный от всего на свете, кроме них, как бы подавился ими — и даже глубокой ночью, во сне, не мог успокоиться, переваривая формулы, как удав проглоченную живность.
Ел и пил Омар, не замечая, что ест и пьет, что подсунет Юнус — курицу, черствый ли хлеб, горькую редьку. Едва возьмется Омар за кусок — в голове ярко вспыхнет новая иль отчеканится, обретет законченность, точно ком растрепанной шерсти в клубке пряжи, старая мысль; Омар, забыв о еде, спешит к рабочему столу, хватает перо. Грань между явью и сном незаметно стерлась.
Омар провел ладонью по лицу. Настолько засалилось, что ладонь густо покрылась жиром. На щеках, подбородке, на верхней губе — что-то мохнатое. Взъерошил волосы — жесткие, грязные.
Нет, хватит. Так нельзя! Вино, например, полезно, но вред его больше пользы, поэтому пить надо в меру. Работать — тоже. Надорвешься — уже ничего не напишешь. Пора встряхнуться, передохнуть.
***
Он услыхал где-то в саду, за хозяйственными строениями, тяжелый прерывистый стук. Будто по темени бьют! Омар и раньше, с утра, ловил его, но, увлеченный расчетами, пропускал мимо сознания. Теперь же, когда он прекратил работу, стук, редкий и частый, то звонкий, то глухой, сопровождаемый тупым непонятным скрежетом, будто доходя сквозь треснувшую деревянную трубу, грубо заквакал прямо у него в ушах. Черт! Было же сказано; следить за тишиною.
Раздраженно покинув комнату, Омар через двор вышел в сад. И чуть поостыл. Холодновато в саду. Смотри-ка, уже осень! Уже листва с деревьев опадает. Будто цыганскими платками увешаны деревья, каких тут нет красок: ярко-желтая, желтая с прозеленью, красная, ржаво-бурая, серо-голубая. Но сочнее, красочнее всех цвет листвы абрикосов: темно-вишневый, черно-лиловый, чисто багровый и яично-желтый. Особенно сейчас, когда, тронутая сыростью, растворенной в студеном воздухе, она тихо светится под остывающим солнцем.
Ураган, что ли, пронесся по саду? Он поредел, оголился, лежал весь в огромных пнях.
— Будем весною сад обновлять, — сказал, улыбаясь, Али Джафар. — Больные старые орешины все посохли. Надо убрать. Вот с рассвета вожусь, — Он пнул громоздкий пень, в котором торчал толстый железный клин. — Ох, устал. Корчую, раскалываю на дрова. Но разве я один справлюсь с этакой уймой работы? До зимы не успею.
— Дай-ка. — Омар взял у него большой молот.
— Что ты? Это занятие не для твоих тонких ручек.
— Отойди. — Омар замахнулся и нанес по клину такой удар, что железо разом ушло вглубь, пень с треском лопнул пополам.
— Ого! — воскликнул Али Джафар. — Сухопарый, а сильный.
— От нишапурской репы, — усмехнулся Омар. — Знаменитая репа! — вспомнил он несносного попутчика. — Воз стоит всего три фельса… — Разве мало он перетаскал тюков с тяжелой тканью в отцовской мастерской? И тюков, и туго набитых мешков с зерном и мукой с возов к амбару. Окрепнешь.
Али Джафар:
— Я-то их всю жизнь корчую и колю. Житель я сельский. Здесь — по воле недоброй судьбы. Наше селение попало в благословенный вакуф бродячих монахов. Ну, ты знаешь этих святых. Даже податей с них не берут, но им все давай. Совсем разорили общину. Пришлось мне искать работу в городе.
Вакуф? Омар потемнел. Икта, вакуф… Мало того, что "правая вера" калечит человеку мозг и душу, — она калечит ему жизнь, отнимая хлеб. Устроившись в Самарканде, Омар отправил с оказией письмо родным в Нишапур. Как они там, несчастные? Ответа еще нет. Долог путь караванный.
— Везде все то же, — сказал он мрачно. — Разве что где-нибудь в стране Рус человеку чуть легче жить.
— Бог весть. Где она, страна Рус! Сказано: хорошо, где нас нет. Я знаю одно — богатому повсюду хорошо, бедному повсюду плохо.
— Да, пожалуй. — Работа на свежем воздухе разогнала Омару застоявшуюся кровь. Дыша полной грудью, он разрумянился, повеселел. Но все-таки голова закружилась от непривычного усилия, на глазах выступили слезы.
— Знаешь что, брось ты пень ворочать, — сказал Али Джафар.
— Нет, мне это дело пришлось по душе. Ых! — Омар грохнул молотом по клину.
— Для тебя это отдых, забава, — проворчал недовольный Али Джафар. — А для меня? Не управлюсь я до зимы со всем этим хозяйством, — обвел он злым взглядом гору пней и поваленных серых стволов. — Хочешь сделать доброе дело — скажи хозяину, пусть наймет двух-трех помощников. На время, пока все дрова не расколем.
— Скажу.
— А ты, если хочешь очухаться от смертельных занятий наукой, — посоветовал ему Али Джафар, — и вернуть себе человеческое обличье, сходи лучше в баню. Пусть банщик разотрет тебе кожу, разомнет суставы и мышцы — сразу оживешь.
Омар — с радостью:
— Верно! Спасибо. Самому бы и в голову не пришло. Я сейчас какой-то бестолковый. Ничего не соображаю.
— Еще бы…
Омар в просторной раздевальной. Обернул простыней голые бедра, накинул на плечи особый банный халат. И зашлепал босыми ногами по мокрому каменному полу. Зал для холодных омовений. Далее — горячее помещение: ряд звездообразно расположенных комнат со сводчатым потолком. Пар над каменным чаном с теплой водой.
Уложив посетителя на скамейку, банщик с такой яростью накинулся на беднягу, что, казалось, хочет содрать с него кожу, выломать руки и ноги, выдернуть все сухожилия. Он крепко растер и звонко отшлепал Омара, больно прощупал мышцы от пяток до плеч и затылка, гулко простукал кулаками спину и грудь, — словом, бил его, мял и колотил, как гончар большой ком глины.
Затем Омар ополоснулся в горячей и холодной воде. Затем он попал к цирюльнику.
— Побрить? Будешь похож на девицу. По виду ты слишком нежен для мужчины. Оставим бородку? Или только усы?
Омар — сухо:
— Оставь бородку и не болтай! И без того трещит голова. — Разве он базарный щеголь, бездельник, усами людей удивлять? Он ученый. Ему к лицу бородка.
Закончив дело, лукавый цирюльник умыл его розовой водой и, отерев полою, поднес серебряное зеркало:
— Ну, как?
— Сойдет, — буркнул Омар, тем не менее очень довольный своей внешностью.
— Голова трещит, говоришь? Потрудись пройти сюда. — Брадобрей завел его в светлую сухую комнату с низким столиком, кошмой, где можно было прилечь, отдохнуть, поставил на столик поднос.
— Вот изюм, фисташки, урюк. Шербету? Но лучше всего, конечно, выпить сейчас чашу вина.
— Вина? — удивился Омар. — А грех?
— Грех упиваться допьяна. Выпить во здравие чашу — вовсе не- грех. Все на свете создано богом. Вино — тоже.
— Да, но пророк…
— Эх, родной! Ты, я вижу, человек ученый. И должен знать, сколько их было, разных пророков. Будда. Христос. Мани. Мухамед. И тьма других. Один объявляет запретным вино, другой — мясо, третий — женщину. Лишь бы в чем-нибудь и как-нибудь ущемить беднягу человека. К черту всех! Впрочем, о Христе. Помнишь первое чудо, которое он совершил? В Кане Галилейской (читал Евангелие?) он превратил воду в отменное вино. О чем это говорит? О том, что даже иной пророк предпочитает вино воде.