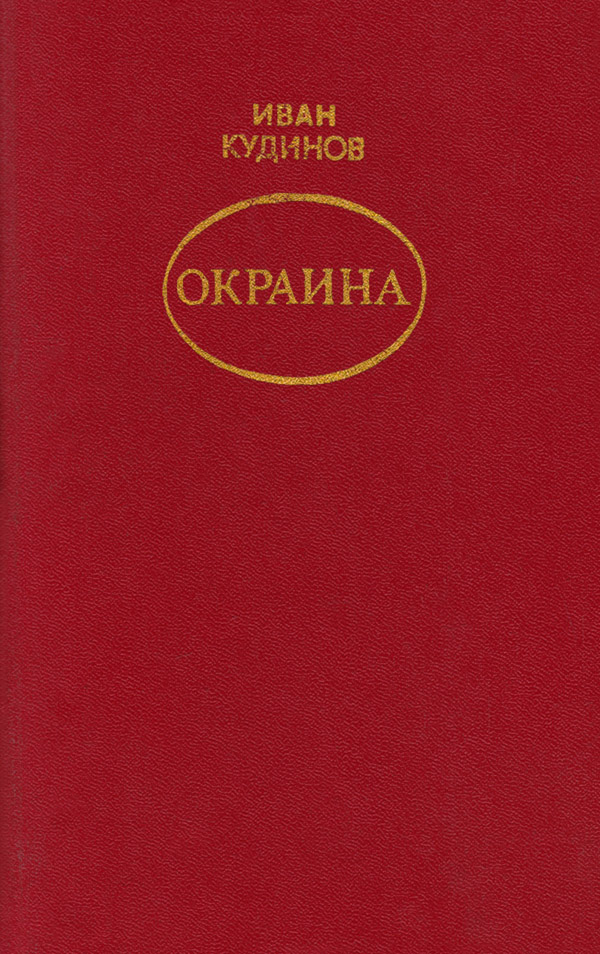class="p1">— Чем же тот хозяин будет отличаться от нынешнего?
— Он будет образован, добр и справедлив, — ответил Щукин и вдруг попросил: — Никита Иванович, пригласите меня в свой флигель. Поговорим.
— Нет, — задумчиво и не сразу ответил старик. — Нет. Тупольской уже давно не принимает гостей. Опоздали-с, милостивый государь. И говорить нам не о чем. Иди-ка ты, братец, своей дорогой, если она у тебя есть. Иди с богом. А меня оставь. Оставь! — Он даже палкой пристукнул о землю, точно пронзить ее хотел, и земля, казалось, отозвалась, глухим глубинным вздохом; или то ветер вздыхал и шумел в деревьях, осатанело срывая с них последние листья. Старик пристукнул еще раз березовым своим батогом, нелепо как-то качнулся вперед и пошел прочь, сильнее прежнего приволакивая ноги, нечесаной куделью развевалась неопрятная борода, а ноги не слушались, тело подчинялось ему с трудом, и старик прилагал немалые усилия, чтобы справиться с ним, и каким-то чудом ему все же удавалось справляться. Щукин смотрел вслед старику и думал: «Что же в нем осталось? Всесильный Никита Иванович Тупольской, в честь которого еще совсем недавно, каких-нибудь десять лет назад, палили вот здесь, под горой, полковые пушки… Что же осталось в этом жалком, немощном, парализованном теле, если оно еще движется, живет? Какая же сила держит его на земле?..»
Щукин хотел понять. И жалел, что не вышло между ними согласия, доверительного разговора. Осечка произошла.
Неудачное знакомство с бывшим миллионером не обескуражило Щукина, напротив, он еще больше утвердился в мысли: написать роман. И не откладывать дела, начать работу немедленно… Пока он спустился с Юрточной горы, шел по улицам и закоулкам, возвращаясь на Пески, в ядринцевский дом, где квартировал, вызрел и отчетливо сложился в голове план сочинения, даже название родилось: «Праздники Тупольского». А что? Впрочем, фамилию он может заменить, не в ней суть…
Он не вошел, а влетел в свою комнату и, не раздеваясь, не сняв шляпы, сел за стол, придвинул стопку чистых листов, выбрал самый белый и ровный — писать на плохой бумаге считал он дурным знаком, подумал с минуту и вывел две первые строки:
«История эта, дорогой читатель, уходит корнями в достославные петровские времена…»
Часа через два напряженной, лихорадочной работы, когда и слева, и справа лежали исписанные стремительным почерком листы, Щукин вдруг понял, что, по всем приметам, выходит не роман, не повесть и не рассказ даже, а острая, пронизанная гневом и болью статья. Однако и это его не обескуражило — так сразу романы не пишутся, для этого нужно терпение и время, а статью он, если не сегодня, так завтра допишет и пошлет Добролюбову в «Современник» либо Курочкину (с ним он тоже знаком) в «Искру»… Нельзя об этом молчать! Сибирь нуждается в защите…
Ветер все дул, за окном шумело.
Несколько раз в комнату заглядывала Агнюша, замирала в двери, видя странно согнувшуюся над столом фигуру квартиранта, торопливо что-то писавшего, съехавшую набок шляпу, нежный ребячий завиток на виске. И Агнюша вдруг прониклась таким глубоким, волнующим, почти материнским чувством к этому человеку, что не было сил дальше скрывать, носить в себе этот груз, хотелось во всем как есть признаться… «Господи, — осторожно притворяя дверь, спохватывалась, пугалась она своих мыслей, — да как можно, как можно признаться-то? Это ведь грех самой-то навязываться… Грех-то какой! Батюшки-светы, куда же мне сбежать от себя самой, что мне делать? Ох, ох!..» — горело в ней все, часто и гулко билось отзывчивое Агнюшино сердце. Прошлой ночью привиделся ей сон, будто повенчались они с учителем… и понесла она от него, забрюхатела. Грех, грех-то какой! И от мысли, что могло такое быть на самом деле, радостно сделалось, стыдно и тревожно, Агнюша убежала к себе, зарылась лицом в подушку и плакала горячими облегчающими слезами.
А Щукин все писал и писал, не переставая, уже смеркаться начало, а он все сидел за столом…
Накануне масленицы приехал из Чисторечья посланный Петром Селиванычем Филя Кривой с наказом доставить внука на праздники. Глеб уговорил поехать с ним Колю Ядринцева и Щукина. Собрались мигом. И вот уже легкие санки несутся по зимней дороге — то лесом, полем, то лугами, вдоль замерзшей Томи… Погода стоит ядреная, тихая. Кони бегут резво, громко всхрапывая, ошметки снега летят из-под копыт. Студеный воздух иглами покалывает лицо, бодрит.
— Геть, геть, буланые, рыжие, вороные! — весело покрикивает Филя, оборачивается. — Мигом домчу вас. Глазом моргнуть не успеете. — Борода, усы и брови его заиндевели, он моргает бельмастым глазом, смеется. — Петр Селиваныч наказывал: ты, грит, Филимон, внука доставь мне к масленке, душа из тебя зон, а доставь Глебушку… Любит тебя он, души в тебе де чает, — подмигивает Глебу. — А то как же! Все, грю, Петр Селиваныч, будет сполнено в точности. Неужто я не понимаю. Да и внуку, по чести сказать, какой резон анбицию выказывать? Поедет, грю, с радостью, с превеликой охотой. Эко, Петр Селиваныч-то рад будет — гостей сколь!.. Не закоченели друзья-приятели?
— Тепло, дядь Филя! — живо откликается Глеб. — Под такими тулупами мерзнуть… Жарко.
Они сидят рядом с Колей, плечо к плечу. Щукин лицом к ним, спиной к Филе, на Щукине тоже тулуп, огромный воротник поднят, видны лишь раскрасневшиеся щеки да тускло поблескивающие очки. Щукин задумчив, необычно молчалив, улыбается чему-то, отводя рукою воротник, смотрит вокруг.
— Чудно-то как, друзья! Помните, как у Гоголя: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога!» Как ты хороша…
— Геть, геть, вороные, карие, рыжие! — покрикивает Филя, крутит вожжами над головой, и кони летят, разметав гривы. Полозья кошевки едва касаются, накатанной до блеска колеи, снег сверкает ослепительно, и лес как бы расступается, впускает их к себе, приветливо шумит над головой, обдавая сверху облачком голубоватого сыпучего куржака…
И вправду: глазом не успели моргнуть — и вот оно Чисторечье. Длинной улицей вытянулось на две версты вдоль речки, по-над лесом, за пятьдесят лет разрослось — понаставили чистореченцы и пятистенников бревенчатых, обнесенных заплотами, жердяными пряслами, и небольших изб, и вовсе неказистых, подслеповатых избенок, как вот эта, мимо которой проезжали — одно окно целое, другое, должно быть, разбито и наскоро забрано, заколочено… «Тут-ка я и живу», — объявляет Филя. И кажется, что изба похожа на своего хозяина — такая же маленькая, как бы усохшая, вросшая в землю, с неровно торчащими углами, и так же, как хозяин, одноглазо смотревшая на белый свет…
Проехали улицей, в сторону Томи, поднялись на взгорок и увидели (еще издалека приметный)