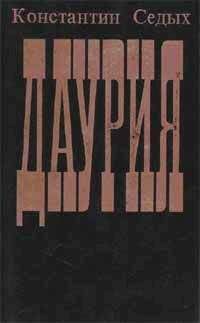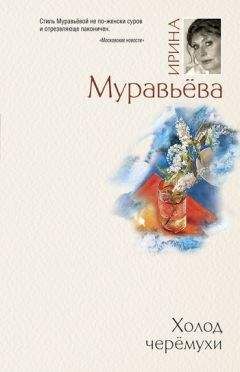Недавней грусти его как не бывало, не заслонила она его дум о предстоящей встрече с живыми, радостных ожиданий.
Он подходил уже к развалившимся воротам, когда внимание его привлек выкрашенный в голубую, выгоревшую от солнца краску высокий с тремя перекладинами крест. Его неодолимо потянуло подойти и узнать, кто из посёльщиков похоронен под нарядным крестом. На средней перекладине креста вилась затейливая вязь церковнославянских букв. Подойдя вплотную, стал читать надпись и вдруг задохнулся от внезапного, затопившего душу горя. Надпись гласила: «Здесь похоронена Дарья Епифановна Козулина, безвинно погубленная, двадцати четырех лет от роду. Мир праху твоему, дорогая дочь».
– Дарья Епифановна!.. – словно в беспамятстве повторил шепотом Роман строгие и скорбные слова надписи. «Так вот на что намекал мне Никишка», – подумал Роман. И, обхватив руками крест, медленно опустился к его подножию. Высокий могильный холмик, повитый степным плющом и усыпанный белыми звездами ромашек, источал запахи, от которых кружилась голова и болело сердце. Слишком много хорошего и невозвратного напомнили они Роману.
– Эх, Дашутка, Дашутка… – заговорил снова Роман, обращаясь к ней, будто к живой, – помнишь, обещал тебе вернуться, встретиться? И вот как довелось повстречаться. И что это приключилось с тобой, что поделалось! А ведь я-то думал… торопился… И вот оно…
Прочитав еще раз надпись на кресте, Роман поднялся и походкой смертельно уставшего человека покинул кладбище. За воротами, садясь на коня, долго не мог попасть ногою в стремя.
Только выехал на дорогу, как из-под сопки донеслась до него лихая партизанская песня:
Ружья в гору заблистали,
Три дня сряду дождик лил.
Против белых мы восстали,
Журавлев там с нами был.
Спеша и задыхаясь, отчетливо выговаривая каждое слово, пели звонкие мальчишеские голоса. И столько было в их пении удали и задора, столько упоения жизнью, что Роман оживился, словно стряхнул с себя каменную гору. Ему было приятно, что песня, которую сочинили они вдвоем с журавлевским ординарцем Мишкой Лоншаковым, стала достоянием детворы. Ему живо вспомнился июльский день в Богдатской тайге, накануне боя, когда, перебирая лады синемехой тальянки, Мишка поделился с ним мечтой о хорошей партизанской песне. «Мотив-то я к ней подобрал, а вот слов подходящих выдумать не могу», – сказал он. Роман согласился помочь, и целую неделю бились они потом с Мишкой, чтобы «складной и ладной» получилась песня. А через месяц ее распевала вся партизанская армия, давно тосковавшая о своей собственной песне. Четыре года прошло с тех пор!.. Много раз слышал Роман свою песню на Шилке и на Амуре, под Волочаевкой и Читой. Но никогда она не утешала его так, как утешила теперь.
«Славно, черти, поют», – позавидовал он, встряхнувшись, и заторопил коня, чтобы поскорее увидеть ребят.
И он увидел их. Они шли навстречу ему босые, в белых и красных рубашках, в заломленных набекрень картузах, с деревянными ружьями за плечами. Завидев его, ребятишки разом смолкли и, сойдя с дороги, остановились.
– Здорово, молодцы! – приветствовал их Роман. – Куда путь держите?
– Мангир рвать, – ответил самый бойкий парнишка в расстегнутой кумачовой рубахе и, хитро прищурившись, добавил: – А я тебя узнал, дядя. Ты ведь Роман Улыбин?
– Верно. А вот я тебя узнать не могу. Чей же ты будешь?
– Прокопа Носкова.
– Ну, а вы чьи? – обратился Роман к остальным, и в ответ посыпались знакомые фамилии Мунгаловых, Лоскутовых, Пестовых, Косых, Назимовых. Поговорив с ребятами, спросил, не знают ли они, где живут теперь его мать и братишка Ганька.
– Знаем! – закричали ребятишки все вдруг. – Живут они в кустовском доме. Ганька-то теперь комсомольский секретарь. Спектакли с комсомольцами ставит, да только нас туда не пускает. Маленькие еще, говорит.
– Да что вы говорите? – обрадовался Роман. – Ну спасибо. А Ганьку я попрошу, чтобы он вас на спектакли пускал. Задаваться ему шибко нечего. – И, распрощавшись с ребятами, поехал дальше, переборов в себе полное безучастие ко всему окружающему.
Первое, что увидел он в Царской улице, был красный флаг над чепаловским домом. Над окнами дома, выходящими на улицу, были прибиты большие железные вывески, гласившие: «Мунгаловский сельский Совет», «Мунгаловская изба-читальня». «Интересно, кто в сельсовете у нас заворачивает?» – захотелось узнать Роману, и он придержал коня, глядя на распахнутые настежь окна той половины дома, где, как он знал, находилась прежде спальня Сергея Ильича. Он увидел там сидевшего за столом чернобородого человека в защитного цвета рубахе. Человек заметил его и подошел к окну. Приглядевшись, он в величайшем возбуждении крикнул:
– Ребята, да ведь Роман приехал! – и прыгнул из окна.
Роман ахнул от счастливого изумления. Он узнал Семена Забережного и, соскочив с коня, бросился к нему навстречу.
Пока они обнимали и разглядывали друг друга, из сельсовета прибежали Симон Колесников, Лукашка Ивачев и красивый, по-юношески угловатый парень, смутно напоминавший чем-то покойного деда Андрея Григорьевича.
– А это кто? – спросил он у Семена.
– Вот тебе раз! – расхохотался Семен. – Родного брата узнать не можешь.
– Да как его узнаешь, если он меня перерос, – глядя на счастливо улыбавшегося Ганьку, сказал Роман и протянул ему руку. – Ну, здорово, комсомольский секретарь.
– Здорово! – солидным баском ответил Ганька и тут же деловито осведомился: – Совсем или погостить приехал?
– На побывку, – ответил Роман.
А из кустовского дома, кем-то предупрежденная, повязывая на бегу полосатый платок, уже бежала мать. Она плакала и смеялась сквозь слезы, худенькая и совсем седая. Сиявшее над Мунгаловским солнце отражалось в ее глазах, которых не замутили все беды и горести, что выпали ей на долю.
Сивер – лес на северных склонах сопок.
Старинное казачье название монголов.
Созвездие.