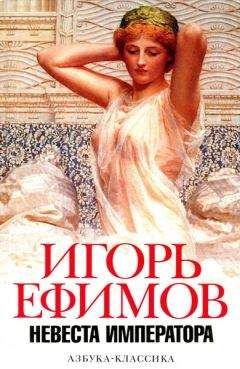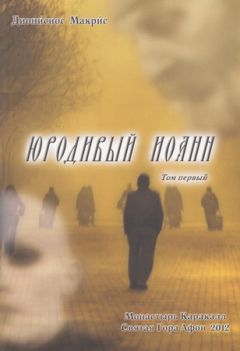Все же иногда он вставлял в разговор какой-нибудь эпизод из детства. Например, мне запомнился рассказ об отце. У отца была привычка водить сына на прогулки перед обедом. Но однажды дела задержали его, и он сказал, что сегодня слишком поздно, времени не осталось. Увидев огорчение сына, он предложил ему совершить воображаемую прогулку по комнате.
— Куда бы ты предпочел сегодня? К городской стене, на берег реки, в сторону мельницы?.. A-а, мы давно не ходили к казармам. Ну что ж, отправимся туда… Смотри, как быстро подвигается строительство церкви… Это потому, что подрядчику удалось наконец наладить новую подъемную лебедку… Видишь, как много известки и кирпичей она может подать наверх зараз… Теперь свернем на улицу, ведущую к амфитеатру…
Пелагий считал, что эти прогулки в четырех стенах научили его жить воображением. И тут же предлагал нам тему для диспута: хорошо это или плохо — давать волю своему воображению? Обязательно ли мечтательность порождает лень? Спасают ли фантазии от скуки? Что опаснее: безделье, порожденное мечтами, или жажда развлечений, питаемая скукой?
Вообще же отец воспитывал сына в строгой христианской вере. О раздорах между христианами Пелагий узнал только в Галлии — до Британии они не докатывались. Поэтому там можно было еще внушать детям, что каждое слово в Библии — священно. Что грех — это грех и что он — ужасен, праведность — прекрасна, смирение — угодно Богу, гордыня — отвратительна.
У меня осталось впечатление, что отец очень много значил в детстве и в зрелой жизни Пелагия. Но образ его оставался пронизан печалью. Может быть, это создало в Пелагии убеждение, что от веры, даже от очень глубокой, не следует ждать счастья.
— Мы оба, я и отец, часто бывали печальны, — припомнил однажды Пелагий. — И нам обоим часто казалось, что один из нас — причина печали другого. Отсюда вырастало чувство вины. Отец называл это состояние «тревогой осуждения». «Не бойся, — говорил он мне, — это пройдет. У тебя просто приступ тревоги осуждения. Не надо бороться с ней. Она углубляет душу».
Пелагий охотно обсуждал с нами труды христианских писателей и проповедников. Лишь однажды, лишь одно имя — и мы все это заметили — заставило его умолкнуть. Он как бы замер, окаменел, когда кто-то из нас спросил его о писаниях Присцилиана.
Конечно, многие тогда произносили это имя с опаской. И только в тесном кругу друзей. Ведь еще и двадцати лет не прошло со дня казни епископа-еретика. Даже сейчас я ловлю себя на трусости: хотел сказать «несчастного» и не посмел. Христиане сжигают живьем христиан за веру — такого еще не бывало. И среди сожженных вместе с Присцилианом была женщина, очень достойная вдова.
Чего только не рассказывали потом про присцилианцев! Что они занимались колдовством и черной магией. Что безбожно отрицали человеческую природу Христа. Что совокуплялись друг с другом, а сам Присцилиан проповедовал своим духовным дочерям в голом виде. Говорили, что они сами во всем этом признались. Не добавляя при этом: признались под пытками.
Однажды ко мне прибежал возбужденный Целестий (он уже тогда был самым проницательным из нас), увел в сад, где никто не мог нас подслушать, и начал шептать:
— Я все понял теперь… Я понял, почему наш учитель молчит о своей молодости… Он так открыт во всем, так правдив, а тут… Я вижу лишь одно объяснение: молчит, защищая кого-то. Пряча. Кого-то очень ему дорогого. И это может быть только один человек: его отец. Помнишь, он рассказывал, как отец тяготился собственным телом, этой бренной плотью? Как отказался от мясной пищи, как восхвалял безбрачие? Это все совпадает с учением Присцилиана. Я думаю, по приезде в Галлию отец Пелагия стал последователем Присцилиана и теперь вынужден скрываться.
— По твоей логике все аскеты должны были бы попрятаться после казни Присцилиана, — отмахнулся я. — А они только растут в числе и силе.
— Но посмотри на даты! — Целестий стоял на своем. — Отец Пелагия лечил солдат в Британии, так? То есть был, скорее всего, армейским врачом. В каком году восставшие британские легионы под командой Максимуса пересекают Ла-Манш? В триста восемьдесят третьем. Мог армейский врач не последовать за ними? Конечно, не мог. Именно тогда семейство Пелагия прибывает в Бордо, чтобы он мог поступить в тамошний университет. А где и когда происходит первый суд над Присцилианом, который оправдал его? В Бордо, в триста восемьдесят четвертом. И дальше этого момента мы ничего не знаем о семье нашего учителя. Живы его родители или нет? Получил он от них какое-то имущество или деньги? Если они умерли, то где, когда и как? Для такой таинственности я вижу лишь одно объяснение: он не хочет выдать местонахождение отца. Который в глазах сегодняшних властей преступник вдвойне: бунтовщик и еретик.
Постепенно аргументация и догадки Целестия начали казаться мне правдоподобными. Но все же я уговорил его не делиться ими с остальными членами нашего кружка. Если наш учитель хотел сохранить что-то в тайне, нам следовало уважать его желание. Тем более что другая тайна его прошлого тоже вдруг приоткрылась для нас в те дни — к великому его смущению и огорчению.
Мы узнали, что в годы учебы в Бордо у него была невеста.
(Юлиан Экланумский умолкает на время)
ГАЛЛА ПЛАСИДИЯ — ОБ ИЗГНАНИИ ЗЛАТОУСТА
Из-за чего началась вторая война между императрицей Эвдоксией и Златоустом? О, это я помню ясно: из-за статуи.
Префект Константинополя хотел подольститься к императрице и выпросил у императора Аркадия разрешение воздвигнуть статую в ее честь. Место было выбрано напротив здания сената, в двух шагах от храма Святой Софии. Фигура императрицы, чудесно отлитая из серебра, была водружена на порфировую колонну. Внизу, по цоколю, шла надпись: «Здесь, где старейшины города изрекают законы, славься в веках, императрица Эвдоксия».
Конечно, как это заведено, были устроены празднества в честь открытия статуи. Бубны, флейты и тимпаны грохотали три дня с такой силой, что прихожане в церкви Святой Софии не могли разобрать слов Иоанна Златоуста. Жалобы на беспорядок не помогали, шумные празднества продолжались. Тогда разгневанный архиепископ выбрал для своей воскресной проповеди историю Иоанна Крестителя. «Опять Иродиада ярится, — возглашал он с кафедры. — Опять пляшет, опять требует головы невинного Иоанна на подносе».
Конечно, ораторы часто употребляют такой прием: вспоминают события древности так, будто они случились вчера. Но здесь намек был слишком прозрачен. Даже и без яда дворцовых интриганов сердце императрицы воспалилось от гнева.
Два ревнителя Господней любви изготовились к новой схватке.
Не знаю, о чем совещался император со своими приближенными, что внушали ему приезжавшие со всех концов страны епископы, о чем они спорили на своих синодах и соборах. Помню только лицо императрицы и выражение горечи, усталости и изумления, застывшее на нем. «За что? — как бы говорило это лицо. — Что я ему сделала? Откуда течет ненависть в его душу и яд в его слова?»
Архиепископу был послан императорский указ, извещавший его о снятии с поста и повелевавший покинуть собор.
«Господь поставил меня быть пастырем для верующих в храме Своем, — отвечал Златоуст. — Поэтому я не могу оставить этот пост. Но власть земная в твоих руках, о император. Удали меня силой, чтобы не было на мне вины перед Господом».
Однако брат мой Аркадий, как всегда, уходил от решительных действий, тянул, совещался, искал примирения. Из Рима шли письма в поддержку архиепископа. Равеннский двор грозил разрывом отношений, если ему будет причинен какой-нибудь вред. Проходил месяц за месяцем, а архиепископ оставался в соборе. Пока не приблизилась Пасха 404 года, которой суждено было получить название «Кровавой».
Должна сознаться: в свои шестнадцать лет я воображала себя очень умной и хитрой. Я умела таить свои чувства и мысли, умела изображать почтительность, потешаясь в душе. Знала, как играть на чужом тщеславии, могла искусно ранить, невинно вымогать, жалобно подавлять. Но теперь я вижу, что одна человеческая страсть оставалась для меня как бы в тумане. Я ничего не понимала в людской злобе.
Да, именно так. Как и мой брат Аркадий, я воображала, что злоба вырастает в ответ на обиду, на страх, на удар. Мне было трудно представить себе, что злобой можно наслаждаться, можно нарочно выращивать ее в себе, лелеять. И поэтому я совсем не понимала того, что творилось вокруг меня во дворце в те месяцы. Я только чувствовала, что воздух в комнатах тяжелел, и просила пошире открывать окна. Но открытые окна не спасали. Все эти епископы, евнухи, генералы, собиравшиеся кучками и толпами в залах, шептавшиеся, перебегавшие по коридорам, умолявшие о чем-то императора и императрицу и потом почтительно и разочарованно пятившиеся, казались мне глубоко и незаслуженно обиженными. Им хотелось помочь. Но чем?