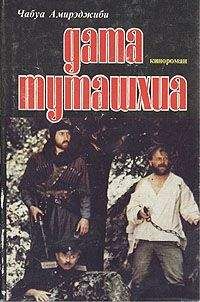Следующие два дня ушли на обдумывание дальнейших действий в их деталях и вариантах. Меня охватил настоящий азарт, и одновременно свербила душу тревога: в моей жизни случались операции несравненно более сложные, но сейчас мною владел страх не оплошать и, не приведи господи, не закончить это дело с меньшим успехом, чем оно получилось бы у Мушни Зарандиа. Эту внутреннюю тревогу и напряженность я обнаружил в себе еще в самом начале этого дела, и при всем желании взять себя в руки и не выдать своего смятения окружающим я смог лишь когда все было завершено. Где уж было мне думать о чем-то еще и о каких-то побочных последствиях происходящих событий.
Операция завершилась в субботу около трех часов дня, и тогда-то на меня навалилась страшная усталость и безразличие ко всему на свете. Мне захотелось в баню, захотелось попасть в руки терщика, вдохнуть приторный запах теплой серной воды. Я вызвал экипаж, и уже через полчаса мы спускались к Орбелиановской бане.
Я растянулся на мраморных плитах, и знаменитый на весь Тифлис терщик Кямбиз сдирал с меня шкуру. В голове моем клубком свернулись мысли, конца которым не было видно, и мысли эти были погружены в дремоту, как и сам я, замерший и отрешенный. Стоило мыслям моим чуть шевельнуться, как в беспощадной наготе представала передо мной истина, что ковер Великих Моголов понадобился Зарандиа, чтобы затянуть Сахнова в западню – и ни для чего больше. Уже никаких сомнений в этом не оставалось, и единственное, чего я не мог себе вообразить, как именно исхитрился Зарандиа потащить Сахнова на этой наживке. Умный и коварный человек готовил заведомо безысходный, роковой конец человеку ограниченному, а если и хитрому, то по-дурацки. Нить моих размышлений на несколько секунд оборвалась, так как Кямбиз вскочил мне на спину и заставил трещать мои позвонки и суставы. Его ступня прошлась по мне от шеи до копчика, на меня сошла легкость, и... стало жаль Сахнова. Я увидел крестника великого князя, валяющегося в его ногах, и тут понял, что гибельная проделка была задумана Зарандиа, а провел ее я.
– Ваш сятельст-фф, прохладить нада? – услышал я Кямбиза.
Я опустил голову, и па распаренное тело обрушилась штормовая волна.
Кямбиз бросил на мои плечи огромную простыню и простился со мной.
Я шел домой пешком, и меня поедом ела совесть. Весь вечер я провел в кресле у камина. Ночью, лежа в постели, часа три вертелся как на вертеле. Проснулся чуть свет, провалялся до полудня, а от мыслей, донимавших меня, так уйти и не смог. Сейчас лишь в самых общих чертах я могу восстановить то, что меня тогда мучило, и попытаюсь рассказать об этом, потому что... потому что отсюда взяла начало вся моя последующая жизнь.
Мой седьмой предок граф Лайош Сегеди поступил на военную службу к русскому царю, женился на русской дворянке, и с тех пор к нашей ветви не примешивалось другой крови. Начиная с 1689 года все мои предки своей единственной родиной считали Русь и своим единственным сюзереном русского царя. Русскому престолу они отдавали все – совесть, талант, жизнь. Они были замечены, и заслуги их оценены высоко. Имения, крупные чины, звания, высокое жалованье, огромные связи – всем этим они владели свободно. Я был единственным прямым наследником титула, и уже с юных лет служение престолу олицетворяло для меня не только высокое положение в обществе и было залогом твердого имущественного положения, но, наверное, раньше всего оно являлось для меня поприщем, на котором моя преданность державе, моя честь и жажда высокого самопожертвования могли обрести свое наиболее полное выражение и способствовали рафинированию моих врожденных достоинств и недостатков. Согласно тому кодексу чести, который и исповедовал, я призван был отдавать отечеству все, а получать лишь столько, сколько нужно было, чтобы отдавать все. Пусть по буду сочтен за хвастуна, по я и вправду жил именно так, из-за чего остался холост, бездетен и на склоне лет одинок.
В студенческие годы, проведенные в Сорбонне, и много позже, еще в продолжение одиннадцати лет, я состоял на тайной службе русской империи в Европе. Но пришло время, и обстоятельства, в которых я не был повинен, заставили меня покинуть Европу и отправиться в Петербург, куда я был отозван. Я вернулся в чине полковника, и, если не изменяет мне память, из моих сверстников лишь несколько достигли подобного успеха. Даже мое фиаско в Европе принесло мне Александра Невского, одну из высших наград империи. Вспоминаю об этом не из желания выказать себя в выгодном свете, а лишь для того, чтобы отметить, что все двери были распахнуты передо мной и я мог пойти в любую. Я выбрал жандармерию, тайную полицию и Кавказ, где тайная служба протекала в условиях наиболее сложных. Вероятно, можно отыскать сотни духовных и материальных причин подобного выбора, но отыскивать и разгадывать их было бы напрасным трудом, ибо причина была одна: я знал, что сохранить достоинство и честь там труднее, чем где-либо. Жажда познать эти трудности лицом к лицу, наедине с ними, и привела меня в жандармерию. Это позволяло мне продолжить военные действия против самого себя, против всего наносного и суетного, что было во мне, что тянулось к соблазнам и таилось в душевных тупиках в противность моим собственным представлениям о достоинстве и чести. Я жил, служил, говоря словами Даты Туташхиа, «сражался с самим собой» и радовался победам. Служба была источником моего духовного равновесия, и без этого я не мог жить. Я обладал богатой коллекцией стереотипов, у меня было раз и навсегда выработанное отношение к вещам, и я – клянусь богом! – не осквернял себя компромиссами, пока не подкрался ко мне, как дьявол, Мушни Зарандиа. Компромисс компромиссу рознь. Я не говорю о том случае, когда надо пожертвовать своим в интересах общества или государства, а я, допустим, не мог совершить этого. Или о том, что Мушни Зарандиа силой своего обаяния или духа один единственный раз добился с моей стороны нравственной уступки! Нет! Я говорю сейчас о коренной ломке устоев, о явных признаках перемены миросозерцания, о повержении идолов... Словом, сложилось так, что на этом поприще я растерял все, для сохранения чего избрал его.
Камнем преткновения стал Сахнов!
Хребтом моей гражданственности был стереотип, согласи:» которому все человечество разделяется на «мы» и «прочие». «Мы» – это те, кто верно служил трону и исповедовал целостность Российской империи, кто был убежден в ее великой и особой всемирно-исторической миссии и праведно служил этом идее. Те, кто этих взглядов не разделял, были для меня «прочими». Я должен оговориться: ни малейшей ненависти к «прочим» я никогда не испытывал. Была лишь настороженность. Я знал, что землю населяем не один «мы». «Прочие» существуют, и их – огромное большинство. Я был воспитан в этом убеждении, и воспитание зиждилось на принципе «убивать в себе в самом зародыше чувство ненависти, привить благоразумную терпимость и пестовать в себе самозабвенную любовь ко всему „нашему“.
Вернусь, однако, к главному. Стереотип, о котором я сказал, подразделялся на три подстереотипа. Я имею в виду все время специфику своей службы, своей профессии и поэтому хочу быть понятым правильно: фактором, регулирующим взаимоотношения империи с «прочими» государствами и их гражданами, я считал нормы международного права, дипломатию и военную мощь. Регулятором взаимоотношений между «мы» и «прочими» внутри империи я считал закон и законность, перед которыми равны все, независимо от умственных, сословных и имущественных различий. При расследовании преступлений, совершенных «прочими», будь эти «прочие» подданными Российской империи или других «прочих» государств, я считал допустимым любые средства, даже коварство, поскольку это была борьба с врагом. Напротив, если поступал донос на человека, принадлежавшего к моему кругу (это третий подстереотип), то противогосударственные деяния такого человека я трактовал как заблуждение ближнего, в нем самом, говоря нынешним языком, видел фракционера и поэтому действовал против него лишь достойными средствами. Правда, продолжалось все это до тех пор, пока я не начинал видеть в нем смертельного врага.
Полковник Сахнов был человеком довольно простого душеустройства, настолько простого, что. переберись он даже в лагерь «прочих» и стань непримиримым врагом, все равно большого зла от пего не было бы. Но никуда он не думал перебираться и в мыслях не держал оказаться врагом престола и державы. Тот алтарь, которому я и мои предки служили на протяжении нескольких столетий, увенчивался его императорским величеством и августейшим семейством. Это была святая святых империи, а родство Сахнова с царской фамилией было признанным. Следовательно, мало того, что он был «наш», он олицетворял собой то начало, служению которому «я был обязан отдавать все, а получать лишь столько, сколько нужно, чтобы иметь возможность отдавать все»...