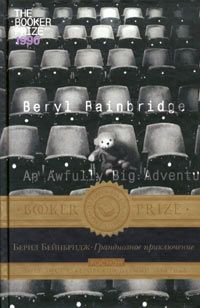Представление началось час спустя. Доктор Поттер отказался нас сопровождать, решив, что слово «концерт» предполагает неминучую музыку. Самодельная, сооруженная из ящиков сцена стояла на самом берегу нижнего озера. Освещалась она фонарями, которые свисали с протянутой меж заранее вбитых столбов проволоки, развеивая надежды тех, кто предвкушал острые ощущения от искусства канатоходцев.
Декорации были оригинальные и забавные — складная такая перегородка, расписанная с обеих сторон: на одной изображена внутренность железнодорожного вагона и даже прорезано окно, а на другой — роскошный портрет королевы Виктории, и у ног ее лев.
В начале концерта совершенно по-новому исполнили «В венке из роз она была»[15], притом что «она» была представлена дюжим солдатом; переодетый в женское платье, он хихикал в глубине вагона, на голове — глупый веночек из виноградных листьев, над ушами — гроздья. Второй солдат стоял в проеме окна, пощипывал банджо и пел. Из тьмы ему стоном откликался тамбурин.
Первую и вторую строфу уже сопровождали громкие крики и хохот, но когда дошло до слов —
И снова вижу я тот лоб,
Но где венок из роз…
(Здесь тот, который на банджо играл, сдернул с «нее» виноградный венец, а взамен водрузил женские панталоны.)
И вдовий плат от глаз укрыл
Все золото волос;
И плачет в грустной тишине… —
последние ноты совершенно потонули в общем ликовании. Поднялся гвалт такой невообразимый, что певцам пришлось снова исполнять все сначала, и зрители подпевали хором, но были другие слова. Когда я попросила объяснений у миссис Ярдли, она сказала, что у армии своя версия и не кажется ли мне, что оригинал сам напрашивается на double entendre[16].
Я так удивлялась и так задумалась — неужели весь сыр-бор из-за этих панталон, — что двух следующих номеров почти не заметила; сначала была военная песня, потом выступал жонглер, но того зашикали, согнали со сцены и закидали его же шариками. Эту грубость объясняли, может быть, наши обстоятельства, не знаю; наверно, вдали от дома, бок о бок со смертью человеку хочется, чтобы его услышали.
А потом была еще баллада, которая произвела странное, даже непонятное действие на Джорджи. Называлась она «Спасенный ребенком» и была весьма сомнительного свойства — про человека, который устал от мирской суеты, сидит в церкви и смотрит на ребенка. Он не может себя заставить молиться, так он разочарован во всем, но вот ребенок запел, и пенье его растопило остуженное опытом сердце.
Посреди этого сентиментального красноречия Джорджи вдруг сжал мне руку. Он теперь уже не пьет, так что я даже испугалась. Я не шелохнулась и — ни слова, чтоб его не спугнуть. Он шепнул: «Миртл, бедная моя, ты прости меня».
— За что? — спросила я.
— За все, — он ответил. — Я так мало с тобой бываю.
— Но у тебя же важная работа, Джорджи.
— Это не оправдание, — он сказал, и он прибавил: — Я к тебе потом приду.
И тогда я стиснула его руку — от любви, вовсе ни в какой не в знак прощенья.
Я так обрадовалась, что рассказать не могу, и в перерыве побежала за доктором Поттером, чтобы тоже не сидел один как сыч. Он при свече искал на себе вшей. Он не мог противиться моей веселости, одернул на себе одежду и согласился пойти на концерт.
Джорджи подвинулся, давая ему место, и я оказалась притиснутой к полковнику, который дул вино прямо из бутылки. Коленкой он дергал еще больше обычного, но что мне за дело?
Прошла приблизительно четверть второго отделения — доктор Поттер от восторга хлопал себя по толстым ляжкам, беспечно потягивал вино из полковничьей бутылки, — но вот на сцену вышел глотатель огня. Он был в театральной кольчуге, а на груди вышит изрыгающий пламя дракон. Внизу было тесное трико, и в публике стали кричать: «Ах, какие ножки!» В парике черными локонами, нарумяненный, он легко бы сошел за девушку, если бы не усы, загнутые двумя тугими кончиками. Он выступал в вагоне, там он поджег паклю и положил перед собой на тарелку. «Прошу прощения у почтеннейшей публики, — сказал, — но я побалуюсь легким ужином». Сказал, взял на вилку кусок пакли, сунул в рот и — выдул пламя. Так было два раза, и он сжевал всю паклю, мы, по крайней мере, не видели, чтобы он ее выплевывал. Потом он то же самое проделал с сургучом, и багровые капли падали на подбородок и все горели, горели, это было лучше всего. А потом пришел помощник, принес мешок с наклейкой «порох» и помог ему снять парик и кольчугу. Мы увидели темные волосы, стройное бледное тело. Порох был самый настоящий; выбрали наобум офицера, он вышел на сцену и подтвердил.
Глотатель огня весь сгорбился, вытянул шею, как черепаха, распростер руки и так стоял, будто собрался тащить на себе крест Господень. В каждом кулаке он зажал, нам объявлено было, по луковице. Помощник не спеша открыл мешок, разыграл сценку: он туда заглядывает, содрогается. Тут глотатель закричал, что он закоченел и чтобы тот поторопился. В ямку между лопатками был насыпан порох, и так, как вот крестьянин сеет семена, помощник усеял серовато-сизым порошком эти простертые руки. А потом повернул глотателя, чтобы мы его видели со спины. В прорезанное окно сунули зажженный фитиль. Помощник его взял, поднял, подержал, чтобы все видели, и — медленно — опустил.
Все замерли — слышно было, как лягушки квакают в приозерных камышах. Я украдкой глянула на Джорджи. Он весь подался вперед и наморщил лоб.
Порох вспыхнул — толпа охнула; пламя голубым пушком прошелестело по обеим рукам до самых кулаков; пальцы разжались, выпустив дым; и клочья паленого лука упали на сцену. Сам он, кажется, не обжегся, но, когда раскланивался, болтал руками, как вот дети, если их по ладошкам отхлещут.
Полковник сказал, это жутко опасный номер. Хорошо еще руку не оторвало. Чуть спасовал бы, самую малость поднял голову, и у него загорелись бы волосы. Я повернулась к Джорджи, посмотреть, что он про это думает, но Джорджи не было. Я спросила миссис Ярдли, не видала ли она его, и она сказала, что он вдруг убежал, кажется, узнал кого-то.
Под конец вдохновение артистов нас окончательно проняло. Кроме глотателя и жонглера, все они, а с ними еще десяток или больше солдат из стрелковой бригады выстроились на сцене по стойке «смирно» и с чувством спели о смерти на войне. Доктор Поттер отчаянно сморкался — верный знак, что он тронут, и это было необычайно, учитывая его отвращение к музыке. Особенно мальчишка-горнист так жалостно дважды вторил строкам «Над гробом пусть они твердят / Он умер как солдат», что просто обрывалось сердце.
Как странно: мы далеко, на чужбине, и королева Виктория жадно всматривается в мглистую ночь, и дрожат голоса под невидными звездами! А какой страшный у песни смысл, как плотно закутана чувством идея, что грош цена нашей жизни!
Доктор Поттер благодарил меня за то, что его вытащила. Сказал, что мужчине невредно поплакать. Они с миссис Ярдли качались на ходу. Мы споткнулись о двоих на дороге. Один еще стонал, другой был уже холодный. Полковник поспешил кликнуть носилки; люди явились сразу, но они едва держались на ногах, так были пьяны. «Ночью все кошки серы» — объявил доктор Поттер и уцепился, чтобы не упасть, за миссис Ярдли.
Я их оставила, как только позволила вежливость. В палатке я привела себя в порядок, как могла, протерла подмышки и другие, еще более интимные места. Потом задула фонарь и стала ждать. Я сама себе шептала — сейчас придет Джорджи.
Вдруг я испугалась, что от меня пахнет луком, но, видно, это в моих ноздрях застрял запах тех луковиц глотателя.
Долго я ждала. Стихли людские звуки, кваканье лягушек снова заполонило ночь. Порой я уплывала куда-то, вот в Чешире, брожу по саду — пузо выпучено, пальцы кромсают лепестки облетелых роз. И стучат-стучат в ушах Эннины спицы. А то вдруг нависла надо мной миссис Харди и давай добиваться, что я сделала с той тигровой шкурой. Из глаз вылилась капля ртути, но это просто в дырявый холст глянула звезда.
Когда наконец я встала и вылезла из палатки, туман катил по озеру, катил прочь, и через небо протянулись полосы рассвета. Совсем близко мужчина и женщина лежали навзничь в росе, и она широко раскинула вывернутые ноги. Они были не мертвые, они спали разинув рты и храпели оба. Наклонив котелок доктора Поттера, в него влезла мордой собака.
Джорджи был в лазаретной палатке, он крепко спал на соломенном матрасе рядом с рабочим столом. Рука его была закинута на грудь огнеглотателя, а тот в больничной рубахе, все еще пылая румянами, лежал на голой земле рядом с ним. Вблизи я его узнала: это был утиный мальчишка. У него был волдырь на губе, в усах застыл каплями сургуч.
Возле меня больной попросил пить. Попытался приподняться, когтя руками воздух. Не обращая на него внимания, я убежала. Он выругался мне вслед.