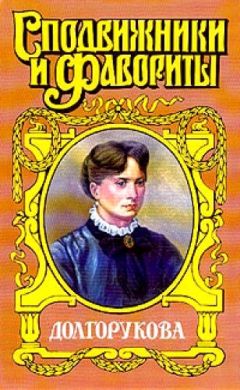— Увы, Александр Михайлович, и Государь не всё может. Если общество на что устремится всеми помыслами, то тут уж ничего не поделаешь. А наш народ, похоже, впадает в националистическую горячку. Скажи мне, почему мы должны идти сражаться за свободу сербов и болгар? Почему мы должны класть за них свои жизни? Только потому, что мы тоже славяне? Но это же нелепица, чудовищная нелепица. Ведь раньше, чем славяне, мы русские, и уж если проливать кровь, то за русские интересы. Если бы на нас кто нападал, грозил бы игом — святое дело. А идти класть наши головы, чтобы наказать турок за болгар и сербов... Я с ужасом думаю об этом и с ужасом думаю, что, если восточный вопрос не решится мирным путём, нам придётся ввязаться в худшую из войн — религиозную...
— Но, может быть, ещё удастся разойтись мирно?
— Я каждый день молю об этом Бога, но наши все слои — от дворянства до крестьян — все жаждут мусульманской крови. Посмотри, о чём пишут все эти Аксаковы, Катковы, Самарины, — Александр кивнул на кучу газет, лежащих на столе. — Об исторической миссии русского народа. Посмотри, о чём мечтают в Московском Кремле. О Византии, о святой Софии, о Золотом роге. Они сошли все с ума... Воистину, не ведают, что творят. Поэтому, Александр Михайлович, — Александр снял со стола газеты и бросил их на маленький столик, — если мне придётся оставить столицу, то заботу о Екатерине Михайловне и детях кроме как тебе поручить некому.
— Ваше величество могли бы и не говорить этого. Я, как и Ваше величество, не хочу войны, но буду рад случаю доказать свою преданность Вашему величеству — в столице ли, на фронте ли...
— В столице, в столице, генерал. Ты ведь знаешь, что значит обеспеченный тыл для воина. В Кате и детях — моё будущее. А в этом указе — их будущее. Поэтому береги его как зеницу ока.
— А скоро ли можно ожидать перемен в нашей мирной жизни?
— Боюсь, что скоро...
24 марта 1877 года. Зимний. Кабинет Николая I.Катя, сидя в кресле, плакала, Александр мерил шагами комнату, иногда останавливаясь перед ней.
— Я должен ехать, Катя, я должен.
— Но ты же говорил, мы никогда не расстанемся.
— Ангел мой, любовь моя, я брал тебя с собой всюду, но не на войну же.
— Я смогу, мне так будет спокойней.
— Нет, нет, Катенька, даже и не думай об этом. Я солдат, для меня это привычно, а ты... Ты же наш ангел — мой и детей. Ты должна ждать меня, охранять наше гнездо. Хотя, признаюсь, как подумаю, что столько времени без тебя придётся — руки опускаются. На что я ненавидел войну, бессмысленную гибель неповинных людей — казалось, больше некуда. Но теперь, когда она ещё и разлучает нас, я ненавижу её во сто крат больше. Катя... Катенька... Катюша... Котёночек мой... — Александр опустился перед ней на колени, обнял её, — как ты тут будешь одна, без меня. Ты только ни в чём не отказывай себе, ладно?
Ни себе, ни детям. Если что — сразу иди к Рылееву, он тебе и заступник, и помощник.
— Я не хочу, не хочу, я боюсь тут одна.
— Кого же ты боишься, глупенькая моя?
— Их. Их всех. Они ненавидят меня, презирают, хотят сжить со свету. Я боюсь. Тебя не будет, я одна против них.
— Но я же тебе говорю...
— Ах, ну что Рылеев? Что он один против них всех? Нет, я умоляю, возьми нас...
— С детьми? Одумайся, что ты говоришь! Там фронт, там стреляют, там гибнут...
— А здесь? Здесь разве не война — всех против меня, нас? Здесь если что и мешает им убить меня, так это ты. Но как только ты уедешь...
— Катя, что с тобой сегодня? Любовь моя... поди ко мне, — он прижался к её волосам щекой. — Слушай, ты вся горишь. — Он потрогал её лоб. — Уж не заболела ли ты?
— Мне холодно, Саша, обними меня. — Он обнял её крепко. Потом снял китель, набросил ей на плечи.
— Ты вся дрожишь. Нет, ты положительно заболеваешь. — Он позвонил. Вошёл адъютант. — Скажи Рылееву, пусть срочно пошлёт за Боткиным.
— Слушаюсь, Ваше императорское величество, — адъютант поклонился и вышел.
Александр уложил Катю на диван, укрыл её ноги кителем, присел рядом, обнял. Она положила ему голову на колени. Он стал покачивать её как ребёнка.
— Ну, ну... Сейчас привезут доктора. Ты простыла, верно. Здесь так дурно топят. И из окон дует. Надо сказать Адлербергу, чтоб распорядился.
— Они это нарочно. Чтоб погубить меня...
— Ну что ты, Катенька, что за мысли у тебя сегодня... Ну кто же хочет погубить тебя. Они, верно, недовольны, но их можно понять. Наш свет лицемерен, они просто завидуют нам, а коль скоро не могут найти в жизни того же, так и злятся и делают вид, что негодуют. Простим им их слабость.
— Я ненавижу их...
— Зачем? Мы счастливы. Счастливый человек не должен знать злости и ненависти, иначе какой же смысл в счастье. Оно и даруется, чтоб любить не только предмет своей страсти, и всех желать видеть такими же. Ты же хочешь, чтоб и сестра твоя была счастлива, и Варя...
— Варя? А она разве несчастна?
12 апреля 1877 года. Особняк Долгоруковых.В своей комнате Варя объяснялась с X.
— Ты от меня бежишь, от меня...
— Да нет же, Варя, я должен, я военный, а теперь война.
— Но того, прежнего тебя ведь нет, ты же другой человек.
— Какая разница, как меня звать, стрелять умею — и, слава Богу.
— У тебя опять долги? — Он пожал плечами. — Большие?
— Для меня большие.
— Ну так останься, я заплачу.
— Ты уже заплатила один раз, да, как видишь, без толку.
— Ну так ещё заплачу, у меня есть деньги. Лучше деньгами, чем жизнью.
— Я заколдованный, вернусь.
— А коль война долго будет? Как же я?
— Ты? Жила же ты без меня раньше, ну так ещё немножко поживи. К тому же ты не одна.
— Много ты понимаешь. Думаешь, сладко в наперсницах ходить? Жить чужими страстями, чужим счастьем? А моё когда?
— Но зато ты приближена к самой вершине. Многие бы хотели на твоё место.
— А мне-то что от этой высоты.
— Ну так вон денег можно заработать, не работая.
— Деньги... Деньги не сами по себе, их тратить интересно. А куда мне их тратить? Для кого? Я своей жизни не имею, своего будущего не знаю.
— Ты вольна уйти, ты ж не крепостная.
— И уйду. Вот скоплю миллион и уйду.
— Миллион? Зачем тебе столько?
— Чтоб твои долги платить.
— Ты думаешь, я всегда буду в проигрыше?
— Да. Потому что тебе в любви везёт. — И она обняла его.
31 августа 1877 года. Ставка императора под Плевной.Александр сидел в небольшой комнате у открытого окна и при свете свечи писал письмо.
«Катенька, радость моя, сегодня ужасный день. Мы потеряли за два часа 14 тысяч солдат. При виде всего этого сердце обливается кровью, и я с трудом сдерживаю слёзы... Господи, помоги нам окончить эту войну, обесславливающую Россию и христиан. Это крик сердца, который никто не поймёт лучше тебя, мой кумир, моё сокровище, моя жизнь... Здесь, среди крови и смерти, оторванный от тебя, я загадал, что, если нам удастся закончить эту войну с честью, я награжу себя самой высокой наградой — возможностью жить подле тебя. Дай только Бог дожить до победы...»
Вдруг где-то рядом разорвался снаряд, взрывная волна швырнула занавеску внутрь комнаты, свеча вспыхнула и погасла.
11 декабря 1877 года. Зимний. Кабинет Александра.Александр ходил по своему кабинету, иногда останавливался, брал в руки какую-нибудь вещь со стола или стены, словно здоровался. Адлерберг молча смотрел на него.
— Ну вот и вернулся. Всё не верится. Неужели всё позади — весь этот ужас...
— И вернулись победителем, Ваше величество.
— А я, поверишь, Саша, не чувствую себя им, не чувствую. Нет радости никакой — только усталость. Кажется на много лет вперёд.
— Вы только вернулись, Государь. Отдохнёте пройдёт. Вы же теперь среди близких.
— Да, да. Кстати, вот что... Кто живёт надо мной?
— На третьем этаже? — удивился Адлерберг. — Фрейлины Её высочества.
— Пересели их куда-нибудь. И сделай там такие же, как здесь, три комнаты. И поставь между нами подъёмную машину. Чтобы сразу из моих покоев, минуя лестницу... Понимаешь?
— Да, Ваше величество.
— Мебель... Мебель всю убери, там будет другая, не дворцовая. Сделай это быстро, к новому году.
— Я не спрашиваю Ваше величество, кто там будет жить...
— И правильно делаешь. Чем меньше ты будешь знать от меня, тем лучше для твоего реноме, а следовательно, и для нашей дружбы.
— Но вовсе скрыть это будет невозможно, Государь, — кухня, прислуга, охрана...
— Но ты всегда сможешь сказать, что я с тобой это не обсуждал, и не покривить при этом душой.