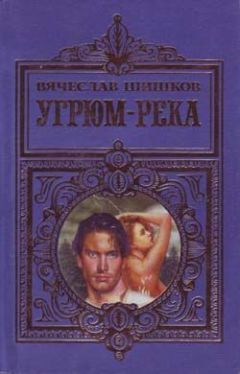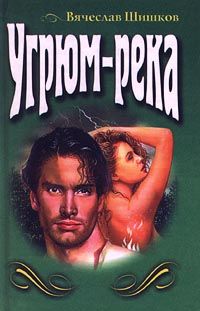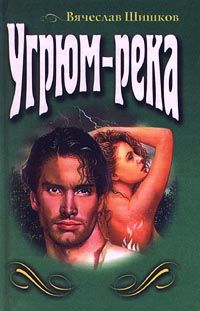Все шло хорошо, лишь упорствовали рабочие Нины Яковлевны: «политик» Краев, рабочий Васильев и другие агитаторы под шумок внушали несговорчивым:
– Вам хорошо живется в бараках Нины Яковлевны. А не стыдно ли вам, товарищи, лучше других жить? Неужто не понимаете, что вас хотят одурачить? Слыхали, как в сказке хитрая лисица взяла на обман дурня петуха? Ну, вот... Так и с вами будет. Вы страшную рознь сеете между вашими же товарищами, прислушайтесь-ка, что говорят про вас... Не будьте предателями, ребята!
Рабочие хозяйки призадумались. Вскоре выборные их дали такой ответ:
– Мы в отпор от народа не пойдем, куда народ, туда и мы.
С отъездом главного инженера Протасова хозяйственные дела Прохора Петровича все более и более запутывались. Из Петербурга летели телеграммы, назначавшие кратчайшие сроки сдачи подрядных работ в казну, причем Петербург угрожал огромными неустойками. Управление железной дороги составляло акты о нарушении подрядчиком Громовым договорных условий своевременной подачи каменного угля.
Осознавшая свою мощь народная масса всюду норовила как можно больше насолить хозяину: «Пусть восчувствует, подлая душа, что главная сила не в нем, а в нас».
Все прииски, как по уговору, начали заметно снижать добычу золота. Лесорубы бросили исполнять уроки вырубки. В механическом заводе от недосмотра лопнул котел, и весь завод надолго остановился, затормозив этим и прочие работы. Наткнулся на камень и затонул с ценным грузом самый большой пароход «Орел». В народе толковали, что группа злоумышленников, в том числе какой-то «молоденький политик в желтом шарфе», нарочно переставила ночью бакены, направив пароход по ложному фарватеру. В довершение всего весть о тяжком заболевании Громова перекинулась во все углы страны. Поэтому вороватые доверенные сорока торговых отделений перестали сдавать выручку, ссылаясь то на пожар лавки, то на покражу товаров и всех денег. А питерские и московские промышленные тузы подавали ко взысканию векселя Прохора Петровича. Для погашения векселей наличных денег не было; в связи с этим собиралась к Громову объединенная комиссия двух крупнейших столичных банков для продажи с молотка некоторых предприятий гордого владельца.
Словом, черная полоса вплотную надвинулась на Прохора Петровича, трагическая судьба его плачевно завершалась.
Он наконец решил взять себя по-настоящему в руки, круто развить небывалую энергию, все поправить, все наладить и крепко идти к увеличению своих богатств, к полной победе, к славе. Он знал, что Тамерлан, и Аттила, и даже сам Наполеон терпели временные поражения, что им тоже изменяло счастье. Значит, нечего напускать на себя хандру, нечего притворяться сумасшедшим, нечего дурачить себя, докторов, Нину и всех прочих. Нет, довольно... Вперед, Прохор! За дело, за свою идею, через неудачи, через баррикады темных угроз судьбы, через головы мешающих ему жить мертвецов, через расстрелянные трупы... Но все-таки вперед, Прохор Громов, гений из гениев, вперед!..
Так, обольщая себя, в моменты душевного подъема он весь вскипал. Но кровь откатывалась от мозга, и взвинченный Прохор Петрович вдруг леденел в приступе холодного отчаянья. «Все погибло, все пропало. Выхода нет».
Как проигравший битву полководец, потеряв самообладание, отдает противоречивые приказы, грозит расстрелом растерявшимся начальникам частей, вносит полный беспорядок именно в тот момент, когда нужна железная воля, нужна ясность мысли, так и Прохор Петрович Громов. Он хватается за телефоны, сочиняет телеграммы; с одной работы, не распорядившись там, мчится на другую, гонит прочь от себя докторов, заводит скандалы с Ниной, дает одну за другой срочные депеши Протасову вернуться на стотысячное жалованье; увидав священника в коридоре своего дворца, ни с того ни с сего кричит ему: «Кутья, обманщик!.. Бога нет!» А бессонной ночью, вскочив с кровати, начинает класть перед иконою поклоны, умоляя Бога даровать ему силы.
В таких противоречиях, в таких душевных судорогах текут его часы и дни.
Однажды под вечер помрачневший Прохор поехал на дрезине с инженером-путейцем в край железнодорожной дистанции, где оканчивалась постройка моста. И там, чтоб облегчить заскучавшее сердце, напустился с разносом на инженера и техников:
– Вы затягиваете работы! Вы в бирюльки играете, а не дело делаете. Вы знаете, какие неустойки я должен заплатить? Ежели участок не будет закончен в срок, ей-богу, я вас всех палкой изобью. А там судитесь со мной...
Инженер, пожилой человек в очках, докладывал хозяину, что при создавшихся условиях работать трудно.
– Какие это создавшиеся условия?
– Нет общего руководства. Задерживаются чертежи мостов и труб. Неаккуратная выплата рабочим. А главное – кадры опытных рабочих разбегаются.
– Куда? К черту на рога, что ли?
– Нет, к Нине Яковлевне, к вашей супруге, Прохор Петрович. – Глаза инженера обозлились, он хотел уязвить грубого хозяина, добавил: – Там организация дела много лучше и условия труда неизмеримо человечнее.
Вертикальная складка резко врубилась меж бровями вскипевшего Прохора.
– Где, где это лучше? – заорал он, раздувая ноздри.
– Я, кажется, ясно сказал: у вашей супруги!
Инженер круто повернулся и пошел прочь, показав хозяину спину.
Взбешенный смыслом ответа, Прохор тотчас – домой. Он ничего не видел, ни о чем не думал. И единственная мысль была – всерьез посчитаться с Ниной. «Ага!.. У тебя лучше, у тебя человечнее?!» Он боялся расплескать по дороге, ослабить эту мысль и, чтоб не остыть, покрикивал кучеру:
– Погоняй!
Не снимая темно-синей венгерки с черными шнурами и драпового белого картуза, он, громыхая сапогами, поспешно пересек анфиладу комнат и, не постучав в дверь, ворвался в будуар жены.
Нина Яковлевна в дымчатом фланелевом пеньюаре, с высоко подхваченными в греческой прическе темными густыми волосами, располневшая, красивая, сидела лицом к Прохору у маленького инкрустированного бюро маркетри. Пред нею, на коленях, дьякон Ферапонт с воздетыми, как перед иконой, руками:
– Внемли, госпожа-государыня!.. Погибаю... Сними с меня сан... Сними сан. Недостоин бо... Возьми, государыня, в кузнецы к себе... А хозяина твоего я вылечу... Лучше всяких докторов.
Опечаленное лицо Нины, как только появился в дверях Прохор, заулыбалось ему навстречу, но вдруг улыбка лопнула, и глаза женщины испуганно расширились: на нее, стиснув зубы, грозно шагал Прохор. И не успела она ни удивиться, ни вскричать, как тяжелая ладонь Прохора ударила ее по щеке. Нина молча упала со стула.
– Стой! – заорал дьякон и, вскочив на ноги, облапил Прохора.
Прохор вырвался, шагнул, сжимая кулаки, к поднявшейся жене, но вновь был схвачен дьяконом.
– Опомнись, Прохоре!.. Что ты наделал?!
– Прочь, дурак!! – И в спину уходящей Нине: – Тварь!.. Змея!.. Разорительница!.. Сумасшедшая... Я тебя в монастырь, в желтый дом!
Нина удалялась с хриплыми рыданиями, запрокинув голову, обхватив затылок закинутыми нежными руками.
Прохор вновь рванулся из лап дьякона и с силой ударил его по виску наотмашь. У Ферапонта загудело в ушах.
– Бей, бей, варнак! Когда-нибудь и я тебя ударю... А уж ударю... – Дьякон сгреб хозяина за обе руки и так больно стиснул, что у Прохора затрещали кости.
Враждебно глядя в глаза его, дьякон басил:
– Рук марать не хочу. А ежели ударю, так не по-твоему ударю. И нос твой в затылок вылетит. Вот, друже Прохоре. Вот.
Дьякон разжал свои клещи-руки и заслонил собой дорогу к Нине Яковлевне. Прохор стоял в той самой позе, в какой был схвачен, и пошевеливал согнутыми в локтях руками, как бы пробуя, целы ли кости. Дьякон Ферапонт достал из широких карманов три бутылки водки:
– Вот, врач Рецептус веселых капель тебе прислал.
– Идем, идем! – изменившимся, жадным голосом нервно воскликнул Прохор. – Черт, скандал какой!.. Что она со мной делает!..
И, обхватив друг друга за плечи, как два влюбленных, они направились в кабинет, пошатываясь от неостывшего возбуждения. Широкая спина дьякона резко передергивалась, точно ее грызли блохи, а глаза, недружелюбно косившие на Прохора, горели какой-то жестокой решимостью. «Я тебе покажу, как женщин бить. Я тебя в ум введу, дурак полоумный», – злобно думал дьякон.
До глубины обиженная Нина, вволю поплакав в своей уединенной спальне, решила призвать в свидетели своего несчастья священника и с еще пылающей щекой направилась в комнату отца Александра. Оседлав нос очками, батюшка в согбенной позе дописывал тезисы очередной проповеди. В синей скуфейке с золотым крестом на груди он приподнялся навстречу Нине.
Зеленый абажур горящей лампы бросал загадочный, холодный свет на все.
Держась за щеку, Нина с настойчивостью в голосе сказала:
– Я не могу больше оставаться здесь. Если вы, отец, не благословите меня на это, я принуждена буду уехать без пастырского благословения. Я не могу, я не могу... Чаша моего терпения переполнилась...