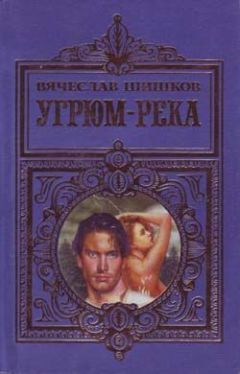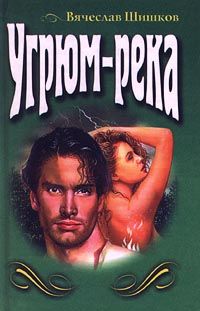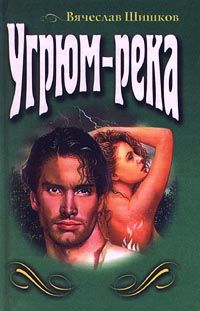– Чепуха, чепуха, чепуха! – стал он бегать по комнате, то затыкая уши пальцами, то встряхивая горячими руками, как курица крыльями.
Озноб не прекращался. Ныли кости. В ушах гул, звон.
В тяжелом душевном раздвоении, которое началось вот здесь, у ложа умирающего старца, болезненное сознание Протасова то цеплялось за ускользающую почву видимой реальности, за веру в себя, в стойкий свой рационализм, то, усомнившись во всем этом, по уши погрязало в противной ему мистике, в нелепом сентиментализме. И вдруг он остро, словно ножом по сердцу, ощутил в себе смертельную болезнь: не досадную простуду, подхваченную им в дороге, а удостоверенный врачами неизлечимый рак, который в полгода свалил его, как падаль, в яму.
– А я думал, что только начинаю жить... Нина, Нина!.. Первая настоящая любовь моя... Ни Бог, ни сатана, ни даже ты, Нина, теперь не в силах спасти меня...
И снова, с отчаяньем:
– Чепуха, чепуха!.. Никакого рака. Чушь! Этот Апперцепциус ничего не смыслит.
Зеркало. Остановился. Поднес к лицу карманный электрический фонарик. Из полумрака глянул на него умными черными глазами скуластый, монгольского типа, человек. Глянул, напыжился и вдруг загрустил глазами.
– Ну что, брат Протасов, болен?
– «Болен», – жалостно ответило зеркало.
– Рак, кажется?
– «Рак», – ответило зеркало.
– Что ж, умрем, Протасов?
– «Умрем», – дрогнув бровью, ответил в зеркале монгольского типа человек.
Протасов горестно покивал зеркалу и подавленным шепотом продекламировал пришедшую ему на память песню Беранже:
Ты отцветешь, подруга дорогая,
Ты отцветешь – твой верный друг умрет...
Ноги его, омертвев, задрожали. Он присел на кровать, уткнулся лицом в подушку и, сухо перхая, заплакал.
За стеной, вторя ему, как эхо, шумели вздохи, всхлипы.
Около полуночи в кабинете Прохора Петровича началась перебранка и стук переставляемой мебели.
Без подрясника, в штанах и беспоясой черной рубахе, огромный дьякон подбоченившись стоял среди кабинета, захмелевшим взором глядел на Прохора. В кабинете жарко, как в бане, дьякон взмок, косматые волосы растрепались, прилипли ко лбу.
– Хоть ты и благодетель мой, а дурак, дурак, дурак, – как петух на зерно, потряхивал головой дьякон. – Кто женщину избил, барыню? Ты, дурак. Кто духовную особу заушил? Ты, дурак.
– Молчи, осел святой, бегемот дьяволов! – шершавым, в зазубринах голосом говорит Прохор, сидя по-турецки у камина на ковре, и тянется к бутылке.
– А кто меня святым ослом-то сделал? Ты, дурак. Я для кузнецкого цеха рожден!.. И батька мой кузнец! А ты прохвостина... Ирод, царь иудейский! Вот ты кто.
– Молчи, молчи, – пьет водку Прохор. – Ты, орясина, забыл, то я буйный? Вот вскочу, искусаю всего, уши отгрызу тебе.
– Попробуй... Я тебя научу, как сумасшедшим быть. Я не Рецептов твой. Я сразу вылечу. Сразу в ум войдешь. – Пальцы дьякона играют, а страшные, как у черкеса, глаза, поблескивая белками, угрожающе вращаются. – Притворщик, черт. Насильник!
Прохор в бешенстве вскакивает, замахивается на дьякона бутылкой, но вдруг, исказившись в лице, валится на колени, опрокидывается на спину, грудью вверх, и, опираясь локтями в пол, шипит:
– Ибрагим... Ибрагим...
– Ах, я Ибрагим, по-твоему?! – И дьякон, скакнув к нему, хватает его за шиворот и, как собаку, бросает в угол. – Говори, кто я? Ибрагим или дьякон? Говори, паршивый черт! – медвежьей ступью лезет к нему пьяный Ферапонт, сжимая кулаки. – Будешь заговариваться, сукин ты сын? Будешь?!
Вобрав голову в плечи и не спуская с верзилы остановившихся глаз, онемевший Прохор, крадучись, бежит по стенке к телефону, опрокидывает по пути тумбу с канделябром, снимает трубку телефона, орет:
– Люди! Исправник!! Ибрагим-Оглы здесь!! – распахивает окно, кричит: – Казаки, стражники!
И от затрещины дьякона кубарем летит к камину. Дьякон – за ним.
– Убью! Не сумасшествуй!.. – гремит дьякон, хватая Прохора за бороду и с силой дергая ее вправо-влево. – Я те без микстуры вылечу... Узнавай скорей, сукин сын, кто я? Черкесец?! – и еще крепче крутит его бороду.
– Брось, Ферапошка!.. Больно! – вырывается Прохор и, вскочив, взмахивает над его головой грузным дубовым стулом.
– Ага! Узнал, пьяный дурак, узнал? – И дьякон, обороняясь, выкинул вперед обе руки. Но стул с силой опустился, и два пальца левой руки дьякона, хрустнув, вылетели из суставов. Не чувствуя боли, он вышиб из рук Прохора стул. Прохор, с налету ударив дьякона головой в грудь, как мельница, заработал кулаками. Дьякон, покряхтывая от крепких тумаков, сгреб Прохора в охапку. Прохор рванулся. Дьякон завопил:
– Руку! Рученьку повредил ты мне!.. – Поджав левую руку с уродливо вывернутыми пальцами, он правой рукой схватил Прохора за грудь и опрокинул его навзничь.
Чрез момент – красные, потные, рычащие от ярости, оба катались по ковру, перекидываясь друг чрез друга.
– А ну... Который которого?!
Падали с треском стулья, тумбы, этажерки, сорвалось с гвоздей и грохнулось тяжелое зеркало.
– Будешь с ума сходить? Будешь?! – грозил дьякон; он грузно оседлал верхом Прохора и вцепился в его плечо железной лапой. – Будешь жену заушать? Будешь меня оплеухами кормить?.. Умри, сукин ты сын!!
Прохор, вырываясь, увидал углами глаз в двух шагах от себя выпавшие из штанов дьякона револьвер и трубку. Хрипя от натуги, елозя спиной и задом, притиснутый к полу, Прохор тянулся к револьверу. Заметив это, дьякон вскочил и нагнулся, чтоб схватить смертоносное оружие. Но Прохор, изловчившись, все так же лежа, со всей силы двинул обеими пятками в зад Ферапонта. Дьякон мешком кувырнулся чрез голову.
В запертую дверь кабинета ломилась прислуга...
Первая пуля жиганула мимо. Обезумевший дьякон шарахнулся к запертой двери. И один за другим в голову, в спину – три выстрела. Дьякон с грохотом выломал дверь и, сшибая лакеев, повара, дворника, побежал через залу с поднятыми руками, навстречу спешившему врачу-психиатру, орал вне себя:
– Вылечил!.. Вылечил!..
Из его рассеченных губ, из разбитого носа, заливая паркет, обильно струилась кровь.
Потом дьякон упал.
Протасов спал крепко. Ночью дважды сменял мокрое от пота белье. Утром просунулась в дверь голова хозяина – деда Клима.
– Ну как, господин барин? Сегодня поедешь али погостишь? Я бы свез... У меня кони как вихрь.
– Входи, дедушка. Дай-ко вон ту штучку стеклянную, трубочку.
Протасов поставил градусник. Клим сел, зевнул, закрестил рот, чрез позевок сказал:
– А про тебя, слышь, старец спрашивал... Старец Назарий... Он, он. Гляди, маленько полегчало ему после соборования-то. Чайку испил с молочком. Говорит: кто гость-то? Я говорю – самоглавный анжинер громовский, управитель. Он говорит: покличь-ка его сюда.
Протасов неопределенно усмехнулся и, помедля, вынул из-под мышки градусник. Температура довольно высокая – 38,4. Чувствовалась общая слабость, все еще позванивало в ушах. «Ничего, ничего... Надо ехать», – подумал он. Напился чаю, стал писать Нине. Не ладилось. Настроение продолжало быть подавленным.
Тут снова появился Клим.
– Прости, сударик-барин... Я все мешаю тебе. Требовает старец-то. Опять прислал.
Протасов раскинул руки, истомно потянулся, подумал: «Может, что интересное сообщит старик о Прохоре Петровиче. Напишу Нине». И, приказав запрягать лошадей, решил пойти к Назарию.
Старец повел большими запавшими глазами на входившего Протасова и гулко кашлянул в ладонь.
– Садись, проезжающий, ко мне поближе, – сказал он. – Мы все на сем свете – проезжающие. Траектория полета нашего – из нуля во все, или, обратно, в нуль. Садись, Андрей.
Протасов в заботливо накинутом на плечи хозяйском полушубке удивленно взглянул в глаза Назария и сел возле столика с маленьким гробом.
– Откуда вы знаете такие мудреные слова: «нуль, траектория»?
– А чем же они мудреные? Это мудрость мира сего, – сказал тихим басом старец. – Я в младости своей пушкарем был, учился и сам учил, как убивать людей. И убивал, и убивал, – взмигнул старец и подергал носом. – На войне был, оружие золотое за храбрость дали. Так бы и погибнуть мне, да Бог отвел. Обожрался, как пес, жизнью и, как пес же, блевать от жизни начал. Свежинки захотелось, воздуху. Из Петербурга в тайгу ушел. Правда, тосковал, сильно вначале тосковал. Смотрел на уединенную жизнь, как на одиночную камеру. А теперь, и уже давно, знаю и чувствую, что настоящую свободу может дать только уединение, только пустыня безмолвия.
– Странно, – внутренне удивляясь и представляя себе весь ужас жизни в одиночестве, раздумчиво проговорил Протасов. – По мне, жить обок лишь со зверями и деревьями – большое несчастье.
– А ты видел радугу над озером? Из воды воду пьет и в воду же обратно возвращает. Так и мое счастье – во мне зарождается и в меня же уходит... Никому не ведомое, ни с кем не разделенное. Отсюда: духовное насыщение, неописуемая радость. Вот, сын мой, вот...