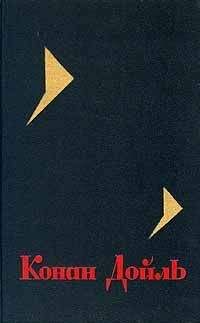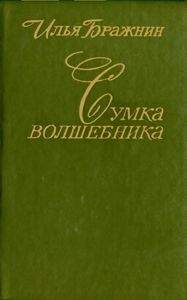Это было пять лет назад. Самому старшему из друзей тогда едва минуло восемнадцать, и они свято верили в свою наивную клятву. Каждый, уходя в жизнь, был убежден, что в назначенный день он будет стоять на этом перекрестке и поджидать друзей. Но чем ближе был день встречи, тем дальше они уходили друг от друга. Один уехал учиться в Швейцарию, другой был убит под Тарнополем, третий отмалчивался где-то на Мурмане. Связи затухали, обрывались.
Единственным, с кем Илюша поддерживал постоянную связь, был Митя Рыбаков. До семнадцатого года, пока Митя учился в Петербурге в Психоневрологическом институте и одновременно вел подпольную политическую работу в студенческих организациях, позже в воинских частях, Илюша постоянно переписывался с ним. Но в семнадцатом году Митя был отправлен в качестве большевистского агитатора в провинцию, и письма стали приходить всё реже и реже. Последние пять месяцев от него совеем не было вестей.
Из всех друзей один Илюша остался в Архангельске сторожем их клятвы. После исключения из гимназии с так называемым волчьим билетом, закрывшим доступ во все учебные заведения Российской империи, он пошел работать учеником в аптеку. Это давало хлеб, хотя и скудный.
В солдаты Илюшу из-за сильной близорукости не взяли. Жил он глухо и одиноко, много читал и в девятнадцать лет писал стихи об осеннем увядании, о «сердце, тронутом тоской и болью».
Первые дни революции были для него благодетельной встряской. Он снова поверил в будущее, которое казалось ему навсегда зачеркнутым. Теперь оно наново рождалось. Закрытые для него прежде двери университета распахнулись настежь. Илюша стал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Несмотря на усиленные занятия, он посвежел, ожил духом и весной восемнадцатого года сдал экстерном за восемь классов гимназии.
В тот же день он сел писать прошение о приеме на юридический факультет Петроградского университета. Пакет с прошением и другими документами отнесла на почту мать. Софья Моисеевна хотела обязательно сделать это сама, и Илюша не стал спорить, так как видел, что хлопоты эти матери приятны. Она молодела вместе с сыном и деятельно готовила его к отъезду. Наступило тридцать первое июля. Это был хлопотливый и беспокойный день, но, ложась в постель, Софья Моисеевна пожалела о том, что он прошел, что близится неотвратимое завтра: отъезд сына.
Софья Моисеевна не могла уснуть. Ну что ж, к тысячам бессонных ночей прибавится ещё одна. Она уже привыкла. И что тут можно поделать? Дети вырастают и уходят. А что она? Старуха! Кому она нужна? Разве что младшенькому, Дане. Ну что ж, она постарается протянуть ещё несколько лет, чтобы поставить его на ноги. А может быть, она ещё и Илюше пригодится. Бог знает, как он там будет жить среди чужих. Кто приглядит за ним, кто накормит его вовремя, кто последит, чтобы он не промочил ноги. А что будет, если он там заболеет?
У неё вся душа изныла от этих мыслей. Но разве она не знает, что её мальчику нужна дорога в жизни? Разве она удерживает его? Держи не держи - всё равно будет так, как должно быть, а как раз сейчас лучше поторопиться с отъездом: город объявлен на осадном положении. Говорят, англичане идут, и уже близко. Правда это или нет, идут они или не идут - этого она не знает, но лучше будет, если Илюша уедет отсюда поскорей: мало ли что может случиться.
Софья Моисеевна тяжело вздыхала, глядя в ночную тьму широко раскрытыми глазами. Тревога её была не напрасна.
В городе в самом деле было неспокойно… И не только в городе. Россия пылала со всех концов. Четырнадцать держав топтали русскую землю. Сибирь и часть Волги были захвачены чехословаками; во Владивостоке высадились японцы, англичане, французы и даже итальянцы; Украину оккупировали немцы; Дон заливали казачьи кулацкие части генерала Краснова; на Мурмане стояла англо-американская эскадра; полковник Перхуров и эсер Савинков, подстрекаемые и оплачиваемые английским поверенным в делах Линдлеем и французским послом Нулансом, подымали в Ярославле белогвардейский мятеж.
На север через Вологду небольшими группами, по путевкам различных контрреволюционных организаций и иностранных миссий, направляются переодетые офицеры. Некоторые из них для безопасности снабжаются паспортами английских подданных. Конечный пункт их следования - Архангельск. Здесь круг должен замкнуться и, суживаясь, раздавить засевших в центре большевиков. Последней отдушиной в этом кольце, последним открытым русским портом был Архангельск. Челюсти огромного капкана должны щелкнуть именно здесь.
Эскадра англичан, американцев и французов, уже захвативших Мурман, поднимает в Мурманске якоря и идет к Архангельску. Тридцать первое июля застаёт её в море.
Глава третья. ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕПРАВА
Утром следующего дня Илюша взвалил на плечи плетеную корзинку, заменявшую ему чемодан, и направился к пароходной пристани. Хлипкие деревянные мостки поскрипывали под ногами. Четырнадцатилетний Данька едва поспевал за ним. Он находил, что брат напрасно торопится: пристань недалеко, а времени достаточно. Не было ещё и первого свистка.
Но то, что успокаивало Даньку, волновало Илюшу. По времени как будто бы уже пора быть свистку, а его всё не было. Прозевать его он не мог, так как жил близ пристани, а зычный, хриплый гудок «Москвы», которая держала перевоз через реку на вокзал, слышен даже на окраинных Мхах.
Но сегодня «Москва» молчала. Выяснилось, что её даже ещё нет у пристани. Билетная касса и пароходная контора оказались закрытыми. Илюша свалил с плеча тяжелую корзину и заметался по безлюдной пристани. Где же пассажиры? Куда девался пароход? Илюша не мог понять. Он не понял этого даже тогда, когда сторож багажного склада объявил ему, что «Москва» сегодня вовсе на вокзал не пойдет.
- Позвольте, как же так? - возмутился Илюша, наступая на сторожа. - Как не пойдет? Я не понимаю!
Сторож сердито отмахнулся, пробормотал что-то невнятное о каких-то «событиях» и мрачно высморкался. Нынче с утра он только и делал, что объяснялся с приходящими на пристань пассажирами, и эти объяснения вконец извели его. Не входя ни в какие подробности, он повернулся к Илюше спиной и хлопнул перед его носом дверью своей будки.
Илюша растерянно потоптался на месте, не зная, что подумать, что предпринять. Выручил его неунывающий Данька.
- Валяй на лодке, - предложил он, громко щелкнув языком. - От монастыря на вокзал перевоз есть!
Илюша, совсем было приунывший, оживился. В самом деле, если почему-либо не идет пароход, то можно берегом дойти до монастыря, лежащего как раз против вокзала, и оттуда переехать Двину на лодке.
Он взвалил корзину на плечо и торопливо затрусил вдоль набережной. Потный, запыхавшийся, добрался он до монастыря и у самого берега действительно увидел лодку. Правда, она была полна народу, и у кормы как бы охраняя подступ к ней, стоял солдат с винтовкой за плечами, но Илюшу это не смутило. За рекой был вокзал, а за вокзалом длинная нить рельсов, бегущих в Петроград, в необъятный мир, в жизнь. Илюша забыл привычную робость и решительно двинулся навстречу солдату.
Столкновение последовало тотчас же, хотя и невольное с обеих сторон. Солдат отступил на шаг назад, Илюша, желая миновать его, подался слишком резко в сторону; корзина покачнулась на плече и, упав, сильно ударила солдата в поясницу.
Солдат дернулся всем телом, обернулся, протяжно свистнул и закричал на весь берег:
- Илюха, чёрт!…
Илюша стоял оторопев, глядя во все глаза на солдата.
- Ситников, - закричал Данька. - Это же Ситников! Вот здорово!
- Действительно Ситников, - засмеялся солдат. - И действительно здорово.
Только теперь Илюша узнал товарища и только потому, что услышал его мальчишеский смех. Всё остальное в Ситникове было иным, чем прежде, новым, незнакомым. Этот нескладный солдат - в замызганной долгополой шинели, со сдвинутой набекрень мятой фуражкой, с обветренным, загрубевшим и обострившимся лицом - мало напоминал прежнего тихого гимназистика. И если с прежним Ситниковым, своим одноклассником Илюша был дружен и прост, то с этим новым Ситниковым он чувствовал себя неловко и стесненно.
По счастью, Ситников, казалось, вовсе не замечал ни стесненности друга, ни его сдержанности. Он хватался за фуражку, потирал руки, хлопал Илюшу по плечам, по груди и наконец радостно обнял.
- Ах ты Черт Иванович, - восклицал он, суетясь и посмеиваясь, то отстраняя Илюшу от себя, то привлекая. - Ах ты Черт Иванович этакий. Ну, скажи пожалуйста - сколько лет ни слуху ни духу, а тут на тебе!