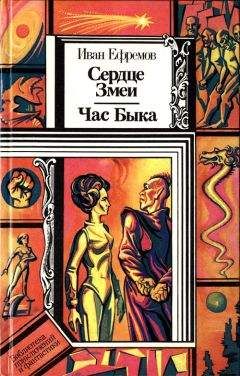– Зачем ты так говоришь, Дио? Ты же знаешь, что я не могу…
Не кончил, и она опять поняла: «Не могу переступить через веру отцов, через кровь отца». Знала, что отец его, старый жрец Амона, был убит в народном восстании против нового бога Атона.
Слезы задрожали в голосе его, когда он сказал «не могу»; но он заглушил их и заговорил спокойно:
– Не выходи сегодня из дому.
– А что?
Он подумал и сказал:
– Может быть бунт.
– Полно, какой у вас бунт! – рассмеялась она. – Вы, египтяне, самые мирные люди на свете.
Посмотрела на него как на маленького мальчика и спросила:
– И ты бунтовать пойдешь?
– Пойду, – ответил он все так же спокойно, но что-то блеснуло в глазах его, что опять напомнило ей, что отец его умер в бунте.
– Нет, не ходи, милый! – проговорила она с внезапной тревогой.
Он ничего не ответил и снова тихо запел, перебирая струны:
Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!
– Ай-ай-ай! Что это? – закричала спавшая тут же, в беседке, девочка.
Сидя на верхушке дерева, маленькая ручная обезьянка ела какие-то желтые стручки и кидала шелуху в беседку, стараясь попасть в девочку или в спавшую у ног ее, тоже ручную, газель-сосунка. Долго не попадала. Наконец, повисла, уцепившись одною лапкой за ветку, а другою – кинула горсть шелухи и попала в газель. Та вскочила, заблеяла, подошла к девочке и лизнула ее языком в лицо.
Девочка тоже вскочила и закричала в испуге:
– Ай-ай-ай! Что это?
Ей было лет тринадцать. В тонком и гибком, как змейка, бронзово-смуглом тельце, сквозившем сквозь призрачно-прозрачную ткань – «тканый воздух», странно сочетались ребенок и женщина. Бронзово-розовые кончики сосцов, уже крепко, по-девичьи, круглившихся, подымали, точно пронзали, остриями ткань, а в глазах была еще детская шалость, и в толстых, точно надутых, губках – детская жалобность. Крошечным казалось под огромною шапкою тускло-черных, пушистых, синею пудрою напудренных волос личико, некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.
Mируит была одной из лучших плясуний, учениц Пентаура; на ее примере он учил Дио.
Заломила руки над головою, потянулась и сладко зевнула, все еще не понимая, что случилось. Вдруг новая горсть шелухи упала к ногам ее. Глянула вверх – поняла.
– А-а, чертовка голозадая! – закричала опять и, схватив глиняный кувшинчик из-под гранатовой наливки – напилась ею давеча, за полдником, оттого и уснула так сладко, – бросила его в обезьянку.
Та злобно зашипела, защелкала зубами, – перескочила на соседнюю пальму и спряталась в листьях – только веера их сухо зашуршали.
– Что это, право, за наказанье! Только что начнет что-нибудь хорошее сниться, непременно разбудят, – проворчала Мируит.
– А что тебе снилось? – спросила Дио.
– Мало ли что! Такое хорошее, что и сказать нельзя… Вдруг подошла к Дио, нагнулась и зашептала ей на ухо:
– О тебе. Будто ты меня… Нет, нельзя при нем, подслушает, выдерет за уши…
– Выдеру и так, егоза! Думаешь, не знаю, куда каждый день шляешься!
– Вот, спасибо, напомнил. Опоздала, опоздала! Ждет меня купец мой, ругается, а как раз обещал ожерелье. Мое-то вон как обшмыгалось, стыдно надеть.
– Скверная девчонка, распутная! – закричал на нее Пентаур с внезапною злобою. – Со псом нечистым снюхалась, с необрезанным!
– Пес, да кормилец, не свят, да богат, а из вашей святости похлебки не сваришь! – огрызнулась девочка бойко и дерзко, подражая старым колотовкам на рынке. – Ни муки, ни крупы, ни пива, ни масти – вот уже пятый месяц, шутка сказать! Подвело нам животы на голодном пайке, отощали, как саранча на Соляных Озерах. Сытый бес крепче голодного бога; и чужой Вааль душу напитал, а свой Овен смирен, да не жирен!
– Ах ты, негодница! В яму захотела?
– В яму? Нет, господин, руки коротки! Времена нынче не те, чтобы в яму невинных сажать. Тронь только пальцем, убегу – не поймаешь! Я – вольная птица: где корм, там и дом.
Птицы Аравийские,
Миррой умащенные! —
запела она, закружила бубен над головой и побежала к лестнице. Газель, как собачонка, за нею.
На верхней ступени Мируит столкнулась с Дииной старою нянею, Зенрою, и едва не сшибла ее с ног.
– Ах, чтоб тебя, коза шалая! – выругалась та, подошла к Дио и подала ей письмо. Дио распечатала его и прочла:
«Еду завтра. Если хочешь со мною, будь готова. Сегодня, до захода солнца, мне надо тебя видеть. Буду ждать в Белом Доме. Пришлю за тобою лодку. Да хранит тебя Атон. – Твой верный друг Тутанкатон».
– Посланный ждет. Что сказать? – спросила Зенра.
– Скажи, буду.
Когда Зенра ушла, Дио взглянула на Пентаура.
Как все жрицы Великой Матери, она была искусною врачихою; видала, как люди умирают, и помнила ту роковую печать – знак смерти, который иногда является на лицах перед близким концом.
Вдруг почудился ей этот знак на лице Пентаура. «Молод, здоров, никакой опасности… Бунт? Нет, вздор!» – подумала, вгляделась – и знак исчез.
– Едешь? – спросил он тихо, но так твердо, что она поняла, что нельзя обманывать.
– Тута едет завтра, а я еще не знаю. Может быть, и не поеду…
– Поедешь. Сама хотела поскорей.
– Хотела, а вот, вдруг забоялась.
– Чего?
– Не знаю. На костре тогда не сгорела, а теперь – точно из одного огня в другой… Помнишь, ты мне говорил о царе…
– Не надо, Дио. Зачем? Ведь все равно поедешь…
– Нет, надо. Гаур, брат мой милый, если любишь меня, скажи все, что знаешь о нем. Я хочу знать все!
Взяла его за руку, и он уже ее не отнимал.
– Все равно поедешь, поедешь, – повторял уныло. – Любишь его, оттого и боишься; знаешь, что не уйдешь; как мотылек, летишь на огонь. В том огне не сгорела – в этом сгоришь…
Помолчал и спросил:
– К Птамозу пойдешь?
– Пойду непременно, без того не уеду.
– Ступай. Он все знает – лучше моего скажет.
Птамоз, первосвященник Амона, злейший враг царя Ахенатона, давно уже звал к себе Дио, но она все не шла и только теперь, перед отъездом, решила пойти.
– Что мне Птамоз? – продолжала она. – Я от тебя хочу знать. Ты прежде любил его, за что же теперь ненавидишь?
– Я не его ненавижу. Знаешь, Дио, мне иногда кажется… Он посмотрел на нее с тою улыбкою, с которою очень испуганные дети смотрят на взрослых.
– Ну, говори же, не бойся, я все пойму!
– Мне иногда кажется, что он – не совсем человек…
– Не совсем человек? – повторила она с удивлением: что-то было в лице и голосе его знающее, видящее.
– Есть такие куколки, – продолжал он, все так же улыбаясь, – дернешь за ниточку, пляшут. Вот и он так: сам ничего не делает, а кто-то за него. Не понимаешь? Может быть, когда увидишь, поймешь.
– А ты его часто видел?
– Часто. Вместе учились у гелиопольских жрецов. Он, я и Мерира, нынешний великий жрец Атона. Мне было тогда тринадцать, а царевичу четырнадцать. Очень был хорош собой, весь тихий-тихий, как бог, чье имя – «Тихое Сердце».
– Озирис?
– Да. Полюбил я его, как душу свою. Он часто уходил в пустыню молиться, а может быть, и так просто, побыть одному. Вот раз ушел и долго не возвращался. Искали, искали, думали, совсем пропал. Наконец, нашли у пастухов, на Ростийском поле, где пирамиды и Сфинкс – древний бог солнца, Атон. Лежал на песке, как мертвый, должно быть, после падучей – тогда у него и начались припадки. А как привезли в город, я его не узнал: он и не он, точно двойник его, оборотень, или вот, как я давеча сказал: не совсем человек. Может быть, там, в пустыне, он в него и вошел…
– Кто он?
– Дух пустыни, Сэт.
– Диавол?
– По-вашему, диавол, а по-нашему, другой бог. Ну вот, с этого все и началось…
– Постой, – перебила она. – Ты говоришь, Атон – древний бог?
– Древний, древнее Амона.
– И вы его чтите?
– Чтим, как всех богов: все боги – члены Единого.
– Из-за чего же спор?
– А ты думала, из-за этого? Полно, не такие мы дураки, чтобы не знать, что Амон и Атон – один бог. Лик Солнца видимый – Атон, сокровенный – Амон, но Солнце одно, один бог. Нет, спорят не Атон с Амоном, а Сэт с Озирисом. Сэт Озириса убил и растерзал: убить, растерзать хочет и святую землю Египта, тело Озириса. Для того и вошел в царя…Ты меня не слушаешь, Дио?
– Нет, слушаю. Но ты все говоришь о том, кто в него вошел, а сам-то, сам-то он кто? Или просто злодей?
– Нет, не злодей. В том-то и хитрость диавола, что не в злодея вошел, а в святого. Погибает земля в войне братоубийственной, нивы запустели, житницы разграблены, кожа людей почернела, как печь, от жгучего голода, матери варят детей своих в пищу себе, и это все сделал он, святой. И хуже сделал: Бога убил. «Нет Сына, сказал, я – Сын!»
– Никогда, никогда он этого не говорил! – воскликнула Дио, и глаза ее загорелись таким огнем, как будто и в нее вошел Сэт. – «Не было Сына – Сын будет» – вот что он говорит. Был или будет, был или будет – в этом всё!