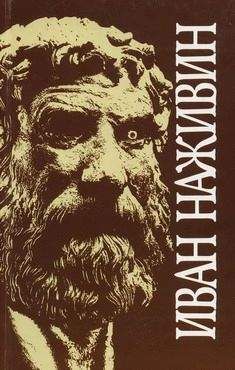— Самая важная новость, друзья мои, это наш закон, которым мы закрываем для мегарцев все наши рынки и порты. Конечно, это очень подольет масла в огонь раздоров, но отступать перед Мегарой Афины не могут. А затем через наших людей из Спарты пришло известие, что союзники ее, члены Пелопоннесской Лиги, съезжаются туда для какого-то важного совещания… Скрывать нечего, друзья мои: в воздухе опять запахло войной и войной серьезной: если у нас несравненно больше золота — главное оружие в войне — и хорош флот, то у пелопоннесского союза большое преимущество в сухопутных силах…
И разговор завертелся вокруг этих действительно важных событий, значения которых, как всегда, не угадывал никто, даже сам Периклес, который как будто был первым их зачинателем. Знатного рода — это демократией весьма ценилось тогда, как и потом, — богатый, он мог бы жить широкой и красивой жизнью вне всякой зависимости от Пникса и агоры, но он был заражен той опасной душевной болезнью, которая самим больным и всем окружающим причиняет всегда чрезвычайно много хлопот: государственной мудростью. Эти так называемые государственные умы почему-то воображают себе, что они лучше других знают, как устроить дела своего народа или даже человечества, которое их об этом нисколько не просит. Они забывают историю, они не видят того, что очень иного таких заботников до них прошло по бедной земле, но что от всех их забот и трудов человечеству лучше никак не стало, и то, что они с таким великим шумом и трудами воздвигают, это только те крепостцы из песка, которые строятся детьми на морском берегу и которые смывает первая же набежавшая волна…
Под стать ему была и его подруга Аспазия. Первым браком Периклес был женат на дочери богатого Гиппоникоса, но он развелся с нелюбимой женой и выдал ее, с ее согласия — это было тогда в обычае, — замуж за другого, а сам сошелся с прекрасной ионянкой. Жениться на ней он не мог, потому что сам же за несколько лет до этого он провел закон, что афинский гражданин не может жениться на иностранке — иностранцами в Греции считались тогда жители соседнего греческого города, до которого было полчаса ходьбы, — и что дети от таких браков считаться полноправными афинскими гражданами не могут, так что даже его собственный сын от Аспазии, маленький Периклес, был теперь каким-то обсевком в поле, и это заботило отца, тем более, что два его старших сына, от первой жены, Ксантипос и Паралос, недалекие парни, были полноправными афинскими гражданами.
Аспазию в Афинах не любили — за ее богатство, за знатность, за то, что она, чужестранка, заняла в Афинах такое видное место, за ее незаконную связь с Олимпийцем. Как и Сократу, ей давали всякие обидные клички, ее обвиняли, что недавняя война с Само-сом была вызвана главным образом ею, потихоньку шептали, что раньше, до Периклеса, она была гетерой[2], что она негласно содержит дом терпимости, что она сама сводит Перикпеса с нравящимися ему афинскими дамами и пр. Комик Эвполис, очень ценивший Периклеса, пускал по адресу иноземки в своих комедиях острые шпильки. В конце концов ее обвинили в том, что она вольнодумка, полна нечестия и на суде защитником ее должен был выступать сам Периклес, которого это дрянное обвинение так больно ударило в сердце, — ей грозила смерть — что он перед присяжными не мог даже удержать слез. Аспазию оправдали, но в душах обоих осталась горечь. Тем не менее овладевшая ими обоими с давних пор болезнь — заботы о всеобщем благе — не покидала их, и они отдавали этим заботам все свои силы, подогреваемые, конечно, надеждой, что в конце концов все признают их заслуги и вознесут их как подобает. Когда Периклес выступил перед народом со своим предложением о возведении на скале Акрополя, среди развалин, храма Афине Партенос — Девственнице, — народное собрание испуганно зашумело: такие траты! Фукидит, сын Мелезиаса, напал на Периклеса: деньги собраны с союзников для защиты их от персов, а совсем не для того, чтобы покрывать Афины, как гетеру драгоценностями, тысячеталантными храмами. Периклес гордо заявил, что тогда все расходы он берет на себя лично, но с тем, чтобы на всех им возведенных зданиях было выставлено его имя. Демократы устыдились и с необыкновенным воодушевлением голосовали необходимые средства. Периклес достаточно, казалось, знал цену толпе, но по странной нелогичности своей честолюбивой души гонялся за рукоплесканиями ее как за высшей наградой жизни…
— А как идут дела под Потидеей? — спросил Сократ.
— Ничего… — отвечал Периклес. — Осада дело нелегкое, но рук опускать нельзя. Но ты сам оттуда недавно — как твое мнение о положении дела там?..
Сократ, в самом деле, участвовал в боях под Потидеей в качестве гоплита, спас там, прикрыв щитом, жизнь молодого Алкивиада, родственника Периклеса, и получил даже награду за храбрость, которую он, однако, просил отдать Алкивиаду, полагая, что это поощрит молодца-эфеба к дальнейшим подвигам.
— Я затрудняюсь ответить на твой вопрос, Периклес, — потягивая хиосское, задумчиво отвечал Сократ. — Если бы дело касалось только Потидеи, и тогда в роли оракула выступать было бы не легко, но мы все, понимаем, что пожар завтра может охватить всю Грецию…
На Халкидонском полуострове была зависевшая от Афин коринфская колония Потидея. Поддаваясь внушениям македонского царя Пердикки, известного своим лукавством, Потидея решила освободиться от власти Афин, по сильный афинский флот явился к берегам Македонии, наказал Пердикку разрушением двух его городов, а затем вдруг появился перед Потидеей. Коринфяне, жившие всегда с Афинами не в ладах, прислали Потидее на помощь свое войско, но афиняне загнали его в город и осадили его. Коринф уже послал в Спарту послов: спартанцы должны встать на защиту своих союзников.
— А как рана Алкивиада? — спросил Сократ.
— Поправляется… — любуясь красотой своей полной руки, которая в свете луны казалась серебряной, сказала Аспазия. — Сейчас дурачится где-нибудь на празднике…
Сократу не в первый уже раз показалось, что серьезно по-настоящему красивая женщина занята только собой, а все эти ее философские разговоры, длинные беседы о театре, об искусстве вообще только украшение для нее, как эти золотые обручи, которые едва, казалось, сдерживали золотой потоп ее дивных волос. Но ему почему-то не хотелось останавливаться на этих думах — может быть, потому, что раньше и он был уязвлен этой победной красотой, но вовремя понял, что он — только Сократ.
— Да, Алкивиад остроумен и… дерзок… — усмехнулся Периклес. — Я помню, раз спросил он меня, что такое закон. Я отвечал, что закон это то, что постановляет большинство на Пниксе, определяя, что можно делать и чего нельзя. Он ставит вопрос: а если это определяют олигархи? Я говорю, что то, что государственная власть утверждает, какая она ни была бы, то закон. А если, говорит, власть эта тиран? Я говорю, что и тогда его постановления закон. И он вдруг в упор: но что же тогда насилие и беззаконие? И в конце концов — твои уроки диалектики он, видимо, использовал хорошо, любезный Сократ, — он выводит заключение: а если толпа народа, негласно руководимая богачами, насильно заставляет подчиняться своим постановлениям, разве это не насилие, а закон? Он так запутал меня, что я смутился и сказал: в твоем возрасте и мы все были сильны в таких спорах. И вдруг мальчишка со смехом бросает мне в лицо: «Как жаль, о Периклес, что я не знал тебя, когда ты был сильнее в таких вопросах!..» А? Что ты на это скажешь?..
Сократ добродушно рассмеялся: он любил вострого Алкивиада.
— А ты что так задумчив сегодня, милый Фидиас? — обратилась Аспазия к знаменитому скульптору, глаза которого все больше наливались чем-то темным. — Или тебя тревожат нападки твоих врагов? Оставь их: Фидиас это всегда Фидиас, У тебя в Акрополе стоят три таких защитницы, с которыми нашим беспокойным афинянам справиться будет очень трудно[3]… А Парфенон?..
— Конечно, радости во всей этой грязи мало, но что же тут поделаешь? — сказал Фидиас, и его смуглое, худощавое и красивое лицо с вьющейся черной бородкой затуманилось еще больше. — Фукидит прав: наши афиняне так уж устроены, что они не могут дать покоя ни себе, ни людям…
И он подавил тяжелый вздох. Но он скрыл от Аспазии настоящую причину своего подавленного состояния. Рок захотел, чтобы он полюбил Дрозис, прекрасную гетеру, которая как будто отвечала ему настоящею любовью, но, как гетера, имела нравы весьма свободные и менять их, по-видимому, не хотела. Она была очень остроумна и над всеми этими добрыми принципами старины смеялась всеми жемчугами своих прелестных зубов. Про нее тихонько говорили, что она будто состояла на тайной службе персидского правительства и извещала его о всех словах и жестах шумных афинян. Теперь Фидиас в свободное от Акрополя время ваял у себя дома большую статую Афродиты, моделью для которой он взял Дрозис — такою, какою он хотел бы видеть ее. Аспазия, догадываясь об истинной причине расстройства знаменитого скульптора, все же сделала вид, что поверила ему, и, снова любуясь своей красивой рукой, заботливо поправила на ней изящное золотое запястье: ей было завидно, что для нее эти сказки были уже кончены. Взгляды толстого Лизикла утешить ее не могли… И с тихим вздохом она перевела свой взгляд на красные изящные полусапожки, которые были зашнурованы так хорошо, что нога казалось голой, но тотчас же решила, что больше она их не наденет: в этой фиванской моде было что-то, что не нравилось ей — простые сандалии куда изящнее.