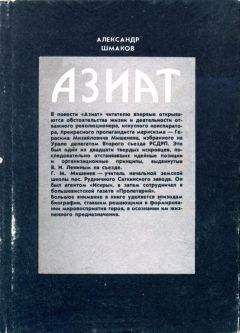Он торопился и оттого запинался, тяжело дышал, слушать его было трудно.
— Еще раз укажу, что я не могу взять на себя ответственность за политику группы из трех лиц, которая, согласно принятому уставу, должна оказывать решающее влияние на ход дел в России…
Председательствующий Плеханов сделал протестующий жест, взялся за колокольчик, чтобы остановить выступающего, но сосредоточенность Ленина, слушавшего Мартова, помешала ему это сделать. Однако Георгий Валентинович едко усмехнулся: «Мартова бог не обидел скромностью: «решающее влияние на ход дел в России!» Уж следовало бы взять ответственность за всю Европу».
— Я не хочу быть «третьим» в учреждении, которого простым придатком будет ЦК… Я слишком мало дорожу званием редактора, чтобы согласиться состоять при двух лицах в качестве третьего…
«Опять за рубль двадцать! — теряя терпение, подумал Герасим Михайлович. Он приподнялся, готовый выступить сейчас же. — Ведь сделали притчей во языцех шероховатости, о которых говорили ораторы. Перенесли все с больной головы на здоровую. Посадовский договорился даже до того, что я вызвал целую бурю. Что ж, бурю, так бурю! А я должен сказать все, что думаю о шероховатостях, которые прошли перед глазами. Они были, когда обсуждали вопрос о месте Бунда в партии и аграрную программу, отчетливо проступали в дебатах о членстве в партии и вот теперь при выборах тройки Центрального Органа»…
И когда Мишенев попросил слово, он уловил, как довольно встрепенулись нахмуренные брови Плеханова, посветлело его сердитое лицо. Георгий Валентинович не мог не отметить особенность речей делегата, не блещущего ораторской изысканностью, но всегда покоряющего деловитостью и простотой, острым умом и врожденной проницательностью. И сейчас он, заложив руку за борт сюртука, ждал, что уралец скажет о чем-то по-своему важном и значительном.
Оживился и задумавшийся Ленин. Он приподнял голову, подперев рукой подбородок.
— Я хочу обратить внимание съезда на то, — начал Мишенев, — что уже сами по себе передачи моих слов, сделанные некоторыми ораторами, далеко не одинаковы по смыслу и еще более не похожи на мою формулировку.
На него пристально смотрел Красиков, угадывая ход его мыслей, и эта пристальность взгляда Петра Ананьевича придала Герасиму Михайловичу больше уверенности.
— Я указал на то, что «шероховатости» среди редакции существуют и для большинства съезда ясно видны. Но я отнюдь не говорил, что речь идет о «шероховатостях» личного характера, — он повысил голос и этим сделал акцент на главном, что собирается сказать: — Я категорически утверждаю, потому что — я смело говорю это — слишком уважаю товарищей из редакции, чтобы заниматься разбором такого свойства «шероховатостей». Я говорил о тех «шероховатостях», которые проявлялись в прениях съезда по разным вопросам, — «шероховатостях» принципиального характера, существование которых в настоящий момент представляет уже, к сожалению, факт, которого никто не будет отрицать…
Владимир Ильич посмотрел на Мартова, перевел взгляд на Посадовского, словно хотел этим подчеркнуть, — вот то главное, о чем следовало сказать, что надо было объяснить съезду. Два делегата — две позиции, оценивающие происходившее на съездовских заседаниях.
Пройдет почти год после этого дня, и Владимир Ильич вспомнит в своей книге «Шаг вперед, два шага назад»:
«Товарищ Посадовский так и не объяснил съезду, что он хотел сказать, а товарищ Муравьев, употребивший то же выражение, объяснил, что говорил о принципиальных шероховатостях, проявившихся в прениях съезда».
Герасим Михайлович высказал все, что давило его последние дни тяжким грузом. Теперь он свалился с его плеч и наступило душевное облегчение. Очень важно было не ослаблять боевитости, оставаться крепким духом, верящим в победу. Надо было быть готовым к новым схваткам. И сознание этого давало силы убежденно отстаивать свою позицию, идти дальше своим путем. Головня гаснет на ветру, а костер — будет гореть.
…Вот и наступили последние минуты. Все исчерпано, оговорено и решено. Георгий Валентинович закрыл съезд. Он сделал это скорее по обязанности патриарха Российской социал-демократии. Ни огня, ни бодрой и тонкой мысли, какими блистала речь при открытии съезда, не было сейчас в словах Плеханова. И сам он, такой торжественный и взволнованный в начале съезда, призывавший сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми борцами, теперь был сгорблен и удручен.
Все стоя спели «Интернационал». Обе стороны вполне сознавали: вместо единения произошел раскол. Хотя те и другие, отныне большевики и меньшевики, считали себя правыми, стоящими на верном пути, каждому течению в партии предстояло прокладывать русло в своих берегах.
Какому течению суждено стать главным, не мог предвидеть Плеханов. Ленин тоже был охвачен раздумьем в эти минуты. Пел гимн с душой, с прежним подъемом, как и при открытии съезда. Воодушевляли его зовущая вперед мужественная мелодия и слова гимна.
Он пел и смотрел в зал, мысленно обозревая все, что происходило здесь с первого часа открытия съезда и вот до этой последней, трогательной минуты.
Он был рад, что огромное волнение его и всех, кто был в этом зале вместе с ним, позади. Теперь важно правильно оценить работу съезда. Создана партия рабочего класса. Выработаны ее идейные, политические и организационные принципы. Предстоит еще пережить последний переход к партийности от кружковщины.
В голове теснились мысли, рождались слова, вызревала новая статья, которую он позднее назовет «Рассказом о II съезде». Владимир Ильич уже знал, что сегодня и завтра ему и всем двадцати твердым искровцам непременно зададут вопрос, почему произошел раскол, и надо будет дать ответ.
А через восемь дней Александра Михайловна Калмыкова, горячо поддерживающая Плеханова и Ленина, напишет: «…разыгралось все под влиянием страшного переутомления, в одуряющей атмосфере толкущейся на месте шпанки», и Владимир Ильич незамедлительно ответит:
«…я глубоко убежден… нельзя понять происшедшего с точки зрения «влияния страшного нервного переутомления». Нервное переутомление могло лишь вызвать острое озлобление, бешенство и безрассудное отношение к результатам, но самые-то результаты совершенно неизбежны, и наступление их давно было лишь вопросом времени…»
Отзвучали слова «Интернационала». Владимир Ильич предложил посетить Хайгетское кладбище и возложить цветы к надгробию Маркса. Тот, кто чувствовал себя последовательным марксистом, должен был обязательно отозваться на предложение. Это была дань учеников учителю, их долг.
Герасим Михайлович в порыве радости крепко сжал руку Андрею. Всю дорогу, пока на омнибусе добирались до Хайгетской возвышенности, а потом шли пешком, его не покидала приподнятость.
Потрясло кладбище. В огромном парке с узенькими тенистыми аллеями теснились каменные кресты, плоские обелиски, плиты, скульптурные надгробия, ажурные оградки.
Могила Маркса находилась в отдалении, для «отверженных» — на не освященной церковью земле. Найти ее было нелегко, но Владимир Ильич уверенно вел своих товарищей мимо каменщиков, работавших на кладбище.
Мраморная плита была увита плющом, к ней подошли медленно и молча остановились. Мужчины сняли шляпы и склонили головы. Безмолвие продолжалось какое-то мгновение.
Женщины положили букеты у изголовья плиты, а несколько веточек с пышными белыми соцветиями опустили в мраморную вазу. Мужчины были молчаливо-суровы: всем им предстояло как эстафету пронести идеи и учение Маркса — человека, прах которого покоился под этим надгробием.
С ближайших холмов струился легкий ветерок, шевелил лепестки цветов, приглаживал обнаженные головы.
Мишенев стоял рядом с Лениным. Владимир Ильич прочитал ему эпитафию, перевел ее.
Лицо Владимира Ильича было утомленное, глаза грустные, рыжеватая бородка клинышком как-то старила его. На чем-то важном сосредоточился в эту минуту. Припомнив слова Энгельса, сказанные в день похорон Маркса, произнес:
— Имя его и дело переживут века…
Ленин вздохнул, приподнял голову, прищурил глаза:
— «Работать для человека труда», — любил говорить Маркс. Запомните эти слова, товарищи!
Он поклонился могиле Маркса.
Сергей Гусев сорвал листок вечнозеленого мирта, росшего в ногах великого учителя, и спрятал его в нагрудный кармашек. Мишенев захватил щепотку земли, завернул в носовой платок и торопливо зашагал, догоняя товарищей.
…Все было готово к возвращению в Россию: получены документы, билеты, надежные адреса, явки, пароль. Поздно вечером из Лондона отходил поезд на Дувр. В этот день Герасим Михайлович встал рано. Не спалось. Обратный путь в Россию, куда тянуло истосковавшееся сердце, представлялся бесконечно длинным и полным опасностей. Кто мог поручиться, будет ли гладким нелегальный переход через границу?