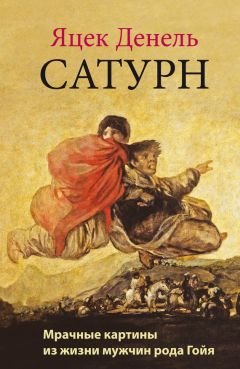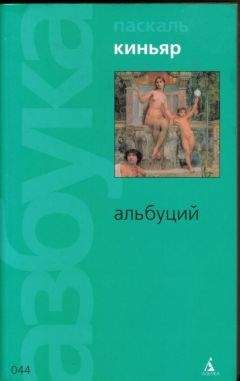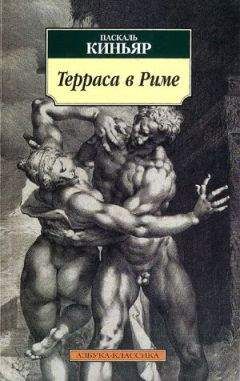Вторая же заслонила лицо траурной мантильей – вдовушка, не имеющая права быть вдовой, – а тот самый локоток, что опирался о камин в нарядной гостиной в Бордо, теперь касается холодной влажной земли, где выкопана яма; протяни она руку, и дотронулась бы до железной ограды, какой обнесена свежая могила. Нет, не румянец заливает ее лицо, оно покраснело от слез. И не приятное удивление поднимает ее бровь, а разочарование. «Как? И это все? Так быстро?»
Если верить пословице, что правда всегда голая (пусть даже это бредни, поскольку нагота тоже обманчива), то истинная маха прячется за маху лживую, одетую; но тут наоборот – тут ложь прикрыта правдой, ибо печаль – твердая косточка, только она и остается от гниющего на солнце фрукта.
Говорит Франсиско
Здесь, в Бордо, сны совсем другие; жизнь возвращается ко мне во всем разнообразии; во сне мне сдается, будто живу вне времени. У меня трое детей: Хавьер, Мариано и Росарио, и идеальная жена, наполовину похожа на Пепу, наполовину – на Леокадию. Приснился мне старый холст Хавьера – широкие плечи Колосса. Армии прокатились через поля, было пусто, а он сидел на краю света под звездным небом, обращенный ко мне лицом, и смотрел на меня, будто о чем-то спрашивал или ждал моей исповеди.
Говорит Хавьер
С тех пор как он уехал, я все чаще вижу сны, а по утрам помню их как длинные рассказы, будто мне уже и читать не надо, будто истории сами создаются и множатся – одни переходят в другие, а те порождают новые, словно происходит их неустанное зачатие. Я мог бы проспать весь день, но не так, как когда-то, чтоб ничего не видеть и ничего не чувствовать, наоборот – чтобы видеть и чувствовать как можно больше.
Говорит Франсиско
Сколько же тут всего происходит! Случается, вздремну среди дня, а когда просыпаюсь, жалею, что проспал даже эти полчасика: мне порой кажется, будто я вернулся в детство, где каждая минута приносила что-то новое. Если я не рисую вместе с моей Букашечкой, если не царапаю на камне быков… Эх! Сколько же все-таки человек помнит! Пепе Ильо, пригвожденный рогами к барьеру арены, я своими глазами видел тогда его смерть… Педро Ромеро, мой друг дорогой, у нас с ним… ладно, оставим. А Спичка? Как же можно ее позабыть?! Известная в Сарагосе как Эскамилья, она вбивала шпагу с тем же шармом, с каким раньше, когда еще ходила по улицам и торговала всякой мелочью, подавала покупателю коробок спичек…
Хоть у французов и нет корриды, но зато возле нас маленький театр, где дают замечательные представления; неделю назад мы ходили на «Пожирателя мышей», жалко, что я не сделал набросков: как он отгрызал им головки, высасывал кровь, а потом бросал в песок или в толпу; а вчера мы ходили на «Негорящего араба», который, как и я, приехал прямо из Парижа: так тот с ногами забирался в печь, после чего, будто в библейских сказочках, выходил оттуда цел и невредим, с хорошо поджаренным цыпленком в руках, им он позднее угощал публику… Леокадии достался кусочек крылышка, сама бы лучше не зажарила, призналась она.
Очень люблю наблюдать за ней на представлениях в театре или в цирке; я хожу туда, чтоб на нее глядеть, а не смотреть «Живой скелет», то бишь обтянутые кожей ходячие кости, или каких-то там змей и крокодилов, или же канатоходца Геркулеса. Мне за глаза хватит того, что я вижу, как ее полноватое, кругленькое личико, хорошеющее в цирке с каждой минутой, начинает пылать, как к щекам приливает неспокойная, теплая кровь – и все, что видит она, я вижу отраженным на ее лице. Я смотрю на движения ее глаз, на едва заметное подрагивание уголков рта и как бы вижу Дьявола верхом на коне, побежденного Ангелом смерти, или крылатого вольтижера Авийона, выделывающего разные штучки на трапезе с мадам Розали… А какую радость доставлял Мунито! Сколько у меня в жизни было первоклассных охотничьих собак, до чего здорово приносили они подстреленную дичь, но, должен признаться, ни одна из них не сделала бы того, что Мунито, а тот считал, играл в домино, переписывал буквы и различал цвета. Росарио же больше всего любила выступления месье… как же его?.. не важно, короче, пердуна, он своей задницей выводил мелодии от начала до конца и подражал разному зверью. Я, само собой, ничего не слышал, но хохотали мы от души! А потом шли к Поцу, на улицу Хорьков, пить шоколад. Как же малышка Росарио радовалась, что идем к Хорькам, и, поди, не столько из-за шоколада, сколько из-за названия, но не буду же я ей объяснять, что ихние хорьки – это наши ночные бабочки, то бишь шлюшки. Что город – то норов, что деревня – то своя живность.
Тут я у них видел башмаки на колесиках, страшно модные сейчас – в парках или на улицах часто видишь, как молодежь ездит в таких и то и дело падает. Ходит здесь публика и на экзекуции, я был на двух, но для меня ничего нового: вдоволь нагляделся я, как людей лишают жизни, а французский способ, как мне сдается, ничуть не лучше испанского, не милосерднее.
Написал Хавьеру, чтоб обязательно к нам приехали – чем человек становится старше, тем больше радуется, когда вся семья в сборе. Какой бы она ни была. Но ни ответа, ни привета. Отговаривается, времени нету – мог бы такое и не писать, а прошептать своей задницей, как тот, в цирке. Все равно бы не поверил.
Говорит Хавьер
Я так долго отказывался приехать в Бордо, что он сам нагрянул, черт бы его побрал. А до этого, весной, якобы настолько занемог, что получил разрешение остаться на водах и продолжить лечение. Но пожалуй, не на водах, а у бордосского родничка, насколько я его знаю. Сначала он выслал мне письмо, составленное двумя лекарями, дескать, страдает от опухоли в паху, паралича мочевого пузыря и рассеянного склероза с симптомами скверной работы кишок и посему не может путешествовать; и мне пришлось отнести его письмо в королевскую канцелярию и с каменным лицом отдать, как ни в чем не бывало. Но стоило ему заполучить продление на год, как тут же выздоровел, будто подняли его на ноги все двенадцать апостолов, и он свалился нам на голову. Якобы хотел присмотреть за своим пенсионом из королевской казны, но я-то знаю, приехал, чтоб совать нос не в свои дела, слегка пустить людям пыль в глаза, насладиться, но не столько Мадридом, сколько самим собой в Мадриде – распустить хвост да покрасоваться. Нес один вздор: о человеке-скелете, о великанше, которую показывают на ярмарке, идеально пропорциональной, но на две головы выше нормального мужчины, о подозрительных типах в шоколадном кафе, у которых вместо имен прозвища: Пастух, Доктор, Жилетка… Мариано и Гумерсинда слушали раскрыв рот – было бы что слушать. Намалевал портрет Мариано, а как же иначе, хоть едва видит, а когда монарх прислал придворного живописца, Лопеса, чтоб тот написал портрет «знаменитого Гойи», он пригрозил, дескать, в отместку напишет Лопеса. При том – подагрические пальцы, слепые глаза. Даже кисти и палитру мне самому пришлось ему найти. А коснулось дела – внука своего изобразил за один сеанс. Вот ведь старый лис.
Говорит Мариано
Говорить с дедом о самых главных вещах было трудно, но не потому, что ему нечего сказать, а, наоборот, потому что самые главные вещи требуют множества слов.
Отец никогда ничего не понимал в высоких материях; дед мне сказал, спросив сначала, умею ли я хранить тайны, что есть тому научное объяснение, он его услышал от какого-то сеньора-химика: всему виной свинцовые белила, та мелкая пыль, что летит при шлифовании полотен, она вечно осаждалась на всех предметах в мастерской. Она-то и отравляет тело медленно, но верно. Но дед думает, что краски тут ни при чем, что это выдумки докторов, от них ничего хорошего не жди. «Он уж такой с самого рождения, – сказал дед. – Как манекен, который бабы подбрасывают на одеяле, безвольный. Будто ему обрезали все сверху, понимаешь. Ест, ходит по нужде, даже тебя сделал, хоть, наверно, безо всякой охоты, а только для приличия, но, когда надо заняться чем-то духовным, неуловимым, тут он бессилен. Такой уж он уродился!»
Говорит Франсиско
В Бордо я побывал в доме безумцев и писал там, пока не стемнело: сумасшедших, рыдающих на коленях, рычащих и мечущихся в остервенении по камере, просовывающих головы через решетку. В своей бесконечной невинности они напомнили мне двух других безумцев из моего прошлого, но об этом молчок. Спроси меня, я бы сказал, что предпочитаю сидеть там, чем в гостиной у Хавьера; терпеть не могу разговоров с пустой скорлупой, в которой не осталось ничего живого.
А все-таки стоило мне вернуться во Францию, как я тут же затосковал по ним; когда я проваливаюсь в дремоту – а такое у меня случается все чаще, – вижу их так отчетливо, будто они сидят передо мной. Шлю им письмо за письмом – и все время какие-то отговорки. Хоть ясно пишу, мол, покрою все дорожные расходы, ни одного реала, мол, не придется вам потратить.
А в другой раз говорю себе: куда ты торопишься, старый хрыч? До Тициана тебе еще ой как далеко!