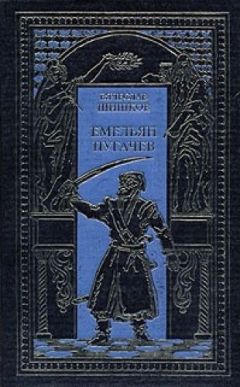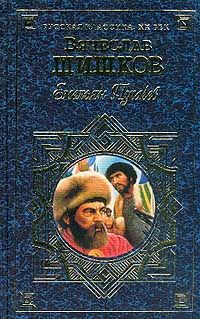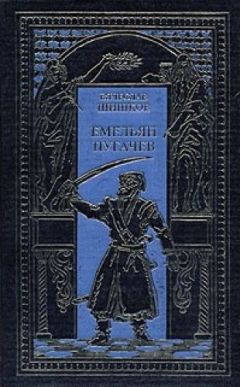Пугачев тоже вздохнул, коснулся рукою плеча Даши и тронул за локоть Устинью:
— Эх, доченьки вы мои, милые, пригожие. Коротко счастье-то девичье ваше на свете живет, и доведется, видно, мне, государю, просьбицу вашу обдумать, да вам раздуматься треба…
— Батюшка, — проговорила Устинья. — Я ведь тоже к тебе с великой просьбицей: отпусти ты домой Пустобаева-старика, — сказала Устя, отвешивая Пугачеву поясной поклон. — Дюже шибко по нем старуха его убивается, а он мне родных кровей человек.
— Пустобаева? Что ты, что ты! — замахал Пугачев руками, но глаза его улыбались. — Ведь Пустобаев мне присягу принимал. Ну, девки, этак вы всех верных слуг моих расхитите… Ой, да сколь же вредны вы, — покачал он головой.
Дверь скрипнула, просунулась чья-то бородатая голова.
— Войди, полковник, — сказал Пугачев.
В горенку вошел вперевалку, на кривых ногах, начальник артиллерии Федор Чумаков. Потряхивая широкой бурой, как медвежья шерсть, бородою, он низко поклонился Пугачеву, затем, прищурившись, оглядел девушек.
— Батюшки мои! — вдруг воскликнул он. — Да никак землячки?
— Землячки, землячки, Федор Федотыч, — улыбаясь, ответила Устя, а Даша беспокойно отвернулась. — Я вот твоего двоюродного братца выручать приехала, государю челом бить.
— Это кого же? Не Пустобаева ли? — спросил Чумаков.
— Вот что, Федор Федотыч, — перебил Чумакова Пугачев. — Дельце у нас знатное на очереди.
— Слушаю, ваше величество, — опустил руки по швам пожилой Чумаков; его круглое, толстоносое лицо стало серьезным и внимательным.
За окнами стемнело. Чубастый Ермилка внес горящие свечи в медных подсвечниках и, пока ставил их на стол, спроворил сунуть себе со стола в рукав кусок леденца и пряник. Подморгнув Усте, он крадущейся походкой, вывертывая пятки, вышел.
— Люди у тебя в порядке, полковник?
— В порядке, ваше величество.
— Нам, мой друг, — сказал Пугачев, — треба дурака Рейнсдорпа за нос провести. Ты вели-ка людям сей ночи как можно ближе к валу крепостному прокрасться. И пускай они там костров шесть, а то и поболе разложат. Да чтобы ярко костры горели, да чтобы костер от костра шагов на полтораста каждый. Чуешь, полковник? А коль скоро запалят костры, пускай на сторону втикают. Я чаю, Рейнсдорп перепугается да сослепу по кострам из пушек палить учнет. А ты, друг, тем временем на другом участке, темнотой-то укрываясь, пушки выкати. Да сколь можно ближе к крепости-то. Да чтоб не скрипнуло, не брякнуло… Чуешь?
— Чую, батюшка, как не чуять. Сколь пущенок-то?
— Как это — сколь?.. Все! Мы на зорьке трах-тарарах Рейнсдорпу учиним… Штурм!
Пугачев довольно долго говорил с Чумаковым. Наконец Чумаков ушел. В горенку из золотого зальца заглянул Давилин и кивком головы вызвал к себе Пугачева. Там, кроме Давилина, был еще и Чика. Вдвоем они подхватили царя под руки, отвели в дальний угол, к печке, зашептали наперебой:
— Батюшка, сей вечер Митька Лысов с четырьмя казачишками прикончили сержанта Николаева, в речке утопили. Нами все дело разобрано. Лысов с краю-то в отпор шел, а тут сознался, — и они вкратце рассказали, как им удалось быстро распутать дело.
— Ай-яй-яй… — закрутил головою Пугачев и с шумом выдыхнул воздух. — Как… моих людей убивать?!
— Я его, ваше величество, — с горячностью сказал Чика-Зарубин, — я его, подлюгу, самоуправца, Митьку того на дыбки поднял бы!..
— А ты не учи меня. Созовите-ка через часок-другой атаманов об это место. Всех! И чтобы Лысов всенепременно тут же. Ах ты, Боже мой! Как теперь с девками-то мне быть? Вот что, Чика. Распорядись, пожалуй, чтоб немедленно тройку заложили, да девок обратно, в Илецкий городок, с охраною. А оттудова они дорогу сами найдут. Ну их к чумару! По мне, лучше самую лютую сечу с врагом выдержать, чем бабью голосьбу слухать. — Он помолчал. — Да, вот еще что, голубь мой, — снова обратился он к Чике, — поди-ка ты к девушкам да перекинься с ними словечком… А о сержанте-то, смотри, молчок. Чуешь? Верней же того ты наскажи-ка девкам-то быль-небылицу. Пропал-де сержант Николаев без вести. Намеднись послал-де царь сержанта в Оренбург к губернатору с приказом крепость сдать, а он, видимо, по малодушию изменил нам и Рейнсдорпу передался. Стало, по всей видимости, в Оренбурге он теперь, жених-то, мол, твой, сержант этот. Чуешь? Значит, иди. А здеся-ка вам, кундюбочки, мол, оставаться не можно, штурм будет. Так и толкуй девушкам.
Выслушав Чику, Устинья задумалась, а Дашенька вся вдруг просветлела. «Слава Богу, слава Богу!» — радостно твердила она про себя. Ей было очевидно, что Бог сжалился над ее возлюбленным и спас его от великого бесчестья, и только часом позже, сидя в санках и вслушиваясь в лихое гиканье ямщика, она почувствовала такую нестерпимую тоску, что вслух разревелась.
Над степью шумела темная, непогожая ночь. Колючий ветер, озоруя в просторных степях, крутил летевший с неба снег, переметал обставленную вешками дорогу.
Время перевалило за полночь, а Пугачев с утра еще не пил, не ел.
Стряпуха Ненила с сонными глазами накрыла ему в золотом зальце стол, подала в оловянном блюде щей из кислой капусты со свининой. Он покрошил во щи чесноку, с жадностью, обжигаясь, съел и велел еще подать.
Вошли Овчинников, Творогов, Давилин, Чика и с ними Митька Лысов. Атаманы сказали:
— Хлеб да соль твоей милости!
— Благодарствую, — ответил Пугачев. Он пригласил всех, кроме Лысова, присесть к столу. — А ты, Лысов, подь к печке.
Лысову это не понравилось. Он отошел к печке, но по-сердитому прищурился на Пугачева.
— Вот, други мои, — обсасывая свиной хрящ, начал Пугачев. — У меня, к великому горю моему, секретарь загиб, сержант Николаев. А я без книжного человека, как без рук. Да, спасибо, заместитель в наличности, есть кому сержанта заменить. — Тут он поднял голос до строгости и круто обернулся к печке: — Повелеваем тебе, Лысов, отныне быть нашим секретарем. Отправляйся-ка эвот в тую горницу, подадут тебе там всякий письменный припас, и немедля сготовь ты губернатору Рейнсдорпу указ мой, чтоб крепость сдавал, а то горазд худо ему доспеется. Всякие умственные резонты подпусти, чтоб посолонее вышло, чтоб читал Рейнсдорп да носом крутил.
Вдруг побагровевшее лицо Лысова вытянулось, рот раскрылся, козья бороденка обвисла, но прищуренные глаза по-прежнему смотрели на Пугачева нагло, по-ехидному. Переступив с ноги на ногу, он сказал:
— И чего ты, батюшка, вздумал издевку чинить надо мной? Сам ведаешь, что в грамоте я навовсе темный.
Пугачев ударил кулаком в столешницу (подпрыгнула-затарахтела миска) и на полный голос закричал:
— Так как же ты смел, наглец, моего Николаева пагубе предать?!
— А ты, батюшка, того… не гайкай… Захлопни роток-то свой. Я, слава те Христу, не оглох еще, — дерзко прогавкал Лысов и, поправив кушак, откашлялся. — Ежели мы и прикончили дворянчика, так уж, верь, не зря. Он, гнида, твою милость материть почал, а я вступился за тебя, а он на меня, как волк бешеный, едва не убил.
— Врешь! — снова закричал Пугачев, вновь грохнув кулаком в столешницу. — Ты бабьих-то сказок не толкуй мне! Я Николаева почище тебя знаю. Он на меня черным словом не замахнется. Да и вас пятеро было супротив одного. Врешь, смрад ты этакий!
Наступило молчание. Лысов расстегнул ворот рубахи и, сипло дыша, раскашлялся. Затем едва слышно забормотал:
— Он, батюшка, хошь и грамотей хороший, а все же барин, барская душонка…
— Молчи! Барин ли, татарин ли — не твоего ума дело! Иной барин, да поверней тебя, смрада! Скользкий ты человечишка, Лысов, что твой налим.
— Я-то налим, — обозленно проверещал Лысов, — а ты вот в осетрах ходишь. Дак ты уж против нас-то, против атаманов, сдержись, в щеть-то не иди… А то… неровен час…
— Молчать, паскуда! — Пугачев вскочил и, сжав кулаки, шагнул к Лысову. Тот, выкинув руку вперед, в страхе пятился от грозного Пугачева, бормотал:
— Да ты не больно-то… Не ты меня в полковники выбрал, твое величество, казачий круг выбрал.
Пугачев, заглушая его голос, приказал:
— Давилин! Взять полковника Лысова под арест. На хлеб да на воду. Снять с него саблю… — и, обратясь к Лысову, погрозил ему пальцем: — Последнюю предосторогу я тебе делаю!
Когда Лысова обезоруживали, он шумно пыхтел, скрежетал зубами, из глаз у него катились слезы.
— Погодь, погодь, батюшка! — придушенно выкрикивал он. — Сочтемся… Чистоганчиком отблагодарю…
— Не уграживай! — и Пугачев вышел, резко хлопнув дверью.
Огни во «дворце» один за другим стали погасать. Сонная тишина в доме и на улице. Разве что всадник промчится или спросонок взбрехнет озябший пес. Еще слышно было, как тикают стенные английские часы в золотом зальце да за печкой однообразно и размеренно чирикает сверчок.