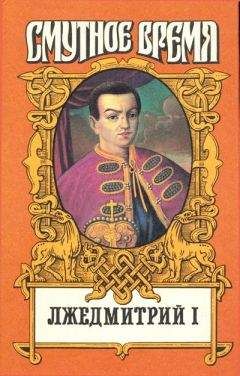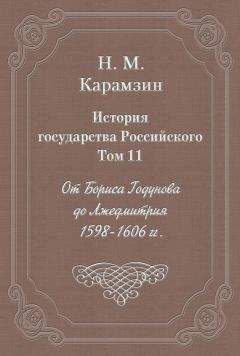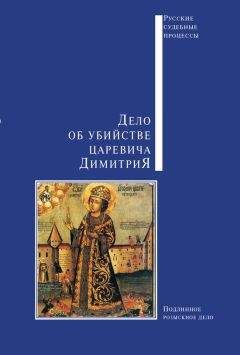— А не знаю. Может, через годок и заверну.
— Стефанушка! Голубь ты мой! Да что ж это ты? Ну, я подсыплю зелья… Ну, не сердись.
— Я тебя не неволю.
— Вестимо, не неволишь! По доброй по своей охоте я это сделаю.
— И каяться не будешь?
— Отошло ли сердце, соколик?
— Отошло. Ты смотри меня предупреди заранее, в какой день вершить это самое будешь.
— Беспременно, беспременно.
— Да сама того питья и глотка не пей.
— Смекаю, смекаю. Ах ты, голубь ты мой сахарный!
Она заключила Стефана, который едва доставал головой до ее плеча, в свои могучие объятия.
Вечер и наступившая за ним ночь были очень жаркими.
Солнце закатилось, окруженное багровыми тучами, при полном безветрии. Было душно так, что трудно становилось дышать. Все предвещало близкую грозу.
От духоты и жары холопам было невмоготу. Они собрались было уже на покой, да мучила жажда. То один, то другой из них поднимался со своего убогого ложа и, зачерпнув полный ковш воды, жадно припадал к ней. Странное дело! Жажда была какая-то особенная: только ковш опростает, смотришь, уж опять пить хочется. Налились водой до того, что тяжело делалось, а горло все пересыхает.
После новое началось: вдруг кто-нибудь из холопов нет-нет да и охнет.
— Что с тобой?
— Да вот брюхо что-то… Ой-ой!
— Батюшки! Да и у меня что-то неладное зачинается!
Но уж первый холоп не отвечал: он лежал белый как мел с ввалившимися глазами, тихо стонал, потом сразу умолкал и переставал шевелиться.
Скоро по челядне пронеслись глубокие вздохи, стоны и оханье, потом их сменила мертвая тишина. Казалось, холопов охватил глубокий сон, только обычные спутники его: храп и сопенье отсутствовали. Если бы в челядне не было так темно, то можно было бы заметить сидящую в углу, бледную как снег Анну, беспрерывно осеняющую себя крестным знаменьем дрожащею рукою. Когда наступила полная тишина, Анна тихонько выбралась из дому.
Луна слабо просвечивала сквозь тучи. Анна окинула взглядом темный двор. Фигура сторожа белела у ворот.
— Петра! — окликнула она его.
Сторож не шевельнулся.
Она подошла ближе и разглядела, что сторож сидит на земле, прислонясь спиной к забору.
Анна наклонилась над ним и снова окликнула:
— Петра!
Сторож не отозвался.
«И он опился… Ах, грехи! Уж не померли ли они все?..» — с тревогой подумала холопка и отворила ворота.
— Ну, что? Спят? — послышался шепот над ее ухом.
Анна отбежала на несколько шагов, крича:
— Чур меня, чур! Пропади, нечистая сила!
— Чего орешь? Ошалела? — грубо остановил ее Стефан.
— Ах, это ты, Стефанушка! Испужал — страсть. Я только вышла звать тебя, а ты как шепнешь над ухом, я и…
— Ладно, ладно. Что, спят?
— Спят, спят, Стефанушка! Я и то боюсь, — сокрушенно ответила Анна.
— А ну тебя к бесу с твоими страхами!
— Не серчай на меня, глупую. Боюсь я, не отдали ли они души свои Богу, вот что. Пойдем, Стефанушка, я уж нам гнездышко изготовила. Куда ты?
Стефан, вместо того чтобы следовать за нею, поспешно направился к крыльцу дома. Вбежав в сени, он громко крикнул:
— Эй! Хлопцы!
Какой-то шорох послышался невдалеке от него, но никто не отозвался.
— Травка подействовала! — смеясь, пробурчал он и вышел обратно на двор.
— Стефанушка! Зачем ты туда ходил? Я не туда тебя хотела вести.
— Посмотреть хотел, спят ли?
— Ну, что же, спят?
— И-и как! Никогда больше не проснутся.
— Как так?! Ай-ай!
— Так. Где у вас тут сено да солома?
— А на что тебе?
— Мое дело!
— Вон тут сеновал, а в этом сарае солома.
— Заперты сараи?
— Нет, только приперты. Стефанушка! Да что ж это? Куда ты опять?
Стефан молча направился за ворота и сильно свистнул. Из лесу в ответ донесся тихий свист.
Стефан засвистал снова, и вдруг тихий лес ожил. Возгласы и смех сменили недавнюю тишину. Быстро движущиеся фигуры людей направились к усадьбе, и скоро на темном дворе стало людно.
— Заваливай двери-то на крыльце мигом да тащи сено и солому вон оттуда! — приказывал голос Стефана.
Фигуры заметались туда и сюда.
Прошло с полчаса.
— Пан вельможный! Все готово, только огня подложи, — сказал Стефан.
— Сейчас.
Брызнули искры из кремня от удара огнивом, затлелся трут, пробежала огненная змейка по пучку соломы, и вдруг вспыхнуло яркое пламя и озарило дом, кругом обложенный грудами сена и соломы, и осветило двор. Выступили из мрака фигуры нежданных пришельцев, бледное лицо пана Феликса, улыбающаяся физиономия Стефана. Все ярче пламя, все выше поднимаются огненные языки и лижут стены. Слышится треск загорающегося дерева.
— Ах, Боже мой! Да что же это, что же это, Стефанушка?! — слышится вопль Анны.
— Уйми бабу, чего орет! — приказывает пан Феликс.
— Молчи! — грозно шепчет Стефан Анне. — Молчи, если тебе жизнь не надоела! Чего ревешь? Бога благодари, что погибнуть в пожаре не пришлось. А теперь здесь не брошу, с собой возьму.
— Ах, я — душегубка, Стефанушка! Ведь это все я наделала! Непутевая!
— Молчи! — еще грознее повторяет Стефан.
— Не могу молчать, грех тяготит! Побегу в Черный Брод о пожаре сказать.
— Не смей!
— Как не сметь! Может, и поспеют на помощь, вызволят господина моего из пламени.
— Ах, так? — свирепо шепчет Стефан. — Вот же тебе!
Блеснула сабля. Анна упала с раскроенным черепом, даже не охнув.
— Дурой жила, дурой и померла, — пробормотал Стефан, вытирая окровавленную саблю о платье Анны.
А на дворе становится все светлее, все громче слышится треск горящего дерева. Багровое зарево виднеется на темном небе. Но в пылающем доме все тихо, там все погружено в страшный непробудный сон, из которого переход только в вечность.
XXV
Последствия «страшного дела»
Бежит сон от глаз Максима Сергеевича. Душно. Грудь часто поднимается, кровь стучит в виски. Тишина такая, что слышно, как слегка потрескивает лампада, зажженная перед иконой Спасителя. Но Златоярову-Гноровскому в этой тишине слышится шепот злобный, прерываемый не менее злобным смехом. Кажется ему, что это шепчет патер Пий… Разве это не он выглядывает вон там из темного угла? Максим Сергеевич даже видит, как белеют его зубы из-за растянутых злорадной улыбкой бледных губ.
— Моя взяла, еретик! Я победил! Я победил! — шепчет Пий.
— Проклятый! Я тебя задушу! — вне себя кричит Златояров-Гноровский и вскакивает со своей постели.
И все пропало. Озаренная слабым светом лампады комната пуста; нет никакого патера Пия.
— Да и как мог бы он попасть сюда? — бормочет Максим Сергеевич, понимая, что это был только кошмар, навеянный душною ночью да тою тоскою, которой полна душа.
До сих пор он еще не может прийти в себя после того ужасного дня, в который он узнал об исчезновении Анджелики. Он хотел бы забыться хоть на миг и не может и все растравляет свою больную рану воспоминаниями счастливого прошлого, воспоминаниями «того» дня. Запомнились все мельчайшие подробности… Он помнил, что, отправляясь в то утро к Влашемским, он был особенно радостно настроен. Накануне он беседовал с Анджеликой, и они вдвоем порешили не медлить со свадьбой, а обвенчаться поскорее, благо вопрос веры, по-видимому, пока оставлен в покое.
— Торопиться надо, а то отец Пий что-нибудь да надумает, — сказала Анджелика.
Он согласился с невестой.
Потом они условились, что он завтра же переговорит о дне венчания с паном Самуилом и пани Юзефой.
Подъезжая к усадьбе Влашемских, Максим Сергеевич был почему-то почти уверен, что сегодня ему предстоит радость: день свадьбы будет назначен и, таким образом, всякие сомнения рассеются. Он испытывал то легкое, бодрящее волнение, которое овладевает человеком, знающим, что ему скоро предстоит пережить один из важнейших и счастливейших моментов своей жизни. Когда он поднялся на крыльцо Влашемских, его несколько удивили смущенные лица встретившихся холопов и их переглядывания друг с другом; однако он не придал этому значения и со спокойным сердцем прошел в покои.
Там первым попался ему навстречу патер Пий. Он ласково улыбнулся Максиму Сергеевичу, низким поклоном ответил на его поклон и удалился в свою каморку.
Затем вышла к нему пани Юзефа, а потом пан Самуил, Пани поздоровалась с ним, как обыкновенно. Ему только показалось, что на лице ее лежит еще более строгое выражение, чем всегда.
Влашемский выглядел совсем расстроенным. Веки глаз его были красны, цвет лица стал каким-то сероватым.
— Что с тобою, пан Самуил? — спросил Златояров-Гноровский.
— Так, ничего… — буркнул, не глядя на него, пан.