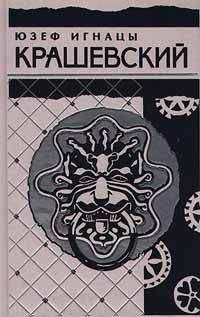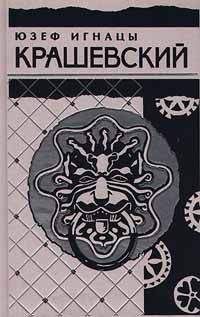Все, которые дома хотели отделаться от смутьяна, понадавали ему рекомендательных писем. Немецкие выходцы были крестоносцам очень желательны. Пинау был первым. Осанка его была доказательством, что он не из щепетильных, и ему выделили добрую площадь земли под самым Мариенбургом.
Дитрих взялся за полевое хозяйство так же страстно, как когда-то разбойничал и безумствовал, будучи рыцарем. Орден доставлял все, в чем в начале чувствовался недостаток. Вместе с сыновьями и несколькими побродягами* — швабами, старик принялся за оборудование нового Пинау. Земля была девственная, плодородная, благодарная и в первые же годы дала прекрасные урожаи, продать которые было нетрудно. Неожиданный успех поддержал дух предприимчивости. Оба сына старого Дитриха, плоть от плоти его, были ему дельными помощниками. Но зато в Пинауфельде только и было разговоров, что о выгодных и приносящих хороший доход предприятиях.
Старуха мать с такой же старой служанкой были единственными представительницами женского пола в доме. Дела им было по горло, — и обе забыли о рыцарских замашках. По вечерам, когда все население Пинау садилось за длинный стол, — а вместе со всеми и Юрий, — разговор шел только о полях, о новинах, о жите, о сене, о скоте и очень редко об охоте и ловитве. Петр и Павел, сыновья старика, иногда выезжали на полеванье с гончими, да и то лишь когда нечего было делать или не за чем присмотреть.
Вся работящая семья и пила и ела наравне с батраками. Домашние нравы отличались грубостью, и за день можно было всласть наслушаться брани и отборных ругательств. Когда старик возвращался с поля сердитым, он не стеснялся срывать гнев не только на слугах, но и на жене. Та не оставалась в долгу. Сыновей, уже взрослых, отец частенько угощал палкой. Дома никому от него не бывало покоя; а когда наступали праздники, развлечения нередко были горше горчайшей работы и кончались пьянством и синяками.
Пинау, обязанный ордену возрождением к жизни, преклонялся перед ним, как перед властелином, ленником которого был. Когда Бернард сообщил старику, что ему пришлют на поправку юношу, орденского питомца, Дитрих поклялся, что будет смотреть за ним, как за собственным сыном. Такая клятва, положим, говорила очень немного, но, сверх того, старик обещал, что жена будет кормить выздоравливающего самыми лучшими, которые только найдутся в доме, кусками и что Юрию будет всего вдоволь. Петр и Павел взялись развлекать его. Гостю отвели светлую комнату, постлали удобную постель… Одним словом, устроили ему райскую жизнь. А надзор за ним был поручен Швентасу.
В первые дни вся семья Пинау заметила, что робкий, молчаливый юноша не очень-то смакует их жизнь; и чем больше они старались ему угождать и прислуживать, тем пугливей и угрюмей он становился. После тихой монастырской жизни домашнее пекло семьи действительно было для Юрия невыносимым; и ничто не могло так питать в нем ненависть к немцам, как вид этого дома, в котором, как в котле, вечно кипели и зло и добро.
Напрасно члены семьи старались первое время понравиться Юрию и втянуть его в свой образ жизни. В конце концов они приписали его нелюдимость болезни и оставили в покое. Он стал пользоваться полной, неограниченной свободой, а это ему только и требовалось. Он приходил, уходил, уезжал верхом с Швентасом во всякое время. К нему присматривались с любопытством и удивлением и заговаривали с большой осторожностью, чтобы не надоесть.
По воскресеньям и праздникам серые плащи частенько пробирались из Мальборга в Пинау, чтобы поиграть в кости и покутить. Приглашали и Юрия, но он являлся с большим отвращением. Зато Швентас проводил у него целые дни и, убрав лошадей, садился у порога на землю и шепотом учил говорить по-литовски.
Они советовались друг с другом, что предпринять, как вырваться из неволи.
Тем временем зима подходила к концу; занималась весна… Сначала непрочная, она появлялась и исчезала… Каждым ясным деньком Юрий пользовался для прогулок верхом. Иногда в сопровождении Швентаса, иногда один.
Юноша попеременно ездил то в одну, то в другую сторону, чтобы познакомиться с окрестностями и иногда забирался довольно далеко. Позже он набрался смелости ездить по направлению к Мариенбургу, который ежедневно был у него перед глазами. Попасть в Мариенбург было бы легче всего, но каждый раз его охватывал страх. Он боялся быть замеченным, боялся доноса и опять заточения в замке.
В течение зимы Бернард несколько раз наведывался в Пинауфельд, чтобы проведать, как здоровье питомца. Он видел, что Юрий поправляется, но по-прежнему молчалив и грустен; а потому оставлял его здесь, чтобы он понемногу окреп.
Зимой отец и сыновья Пинау постоянно присматривали за юношей; с наступлением же весны мало кто оставался в усадьбе. Юрий и Швентас были совершенно предоставлены собственной воле и могли делать что вздумается.
Та цель, к которой оба стремились, — освобождение из кры-жацких тисков, — оказывалась, однако, настолько трудной, несмотря на знакомство Швентаса с краем, что они не смели и думать привести ее в исполнение. Батрак, будь он один, конечно решился бы на бегство; с его внешностью легко было проскользнуть переодетому мимо дозоров, а пойманному выйти сухим из воды. Но молодость, внешность, неопытность, живость Юрия привлекли бы всеобщее внимание.
Жизнь в Пинауфельде, с глазу на глаз со Швентасом, оказала на юношу чрезвычайное влияние; он с возраставшим нетерпением и лихорадочностью горел желанием воочию увидеть Литву и распалялся все больше ненавистью к немцам, которую разжигали рассказы спутника. Юрий торопил Швентаса спешить с бегством, которое тот все откладывал и отсрочивал под теми или иными предлогами.
Состояние завоеванной прусской земли в высшей степени затрудняло бегство. Исчезновение Юрия было бы тотчас замечено, и о нем немедленно сообщили бы всем комтурам для учинения розысков. Туземных жителей, пруссов, было немного, по дорогам, в местечках и загродах сидели немецкие колонисты. За всякими бродягами и проезжим людом был установлен самый строгий надзор в ограждение от шпионов, проникавших из Польши, воевавшей в то время с орденом, также соглядатаев из Литвы, готовой к внезапным набегам. На всех перекрестках стояли крыжацкие бурги, а путь по бездорожью через леса был небезопасен из-за разбойничьих шаек язычников, все еще в конец не истребленных.
Швентас, хотя и не отчаивался, что удается улучить удобную минуту, однако, откладывал бегство и отговаривался под разными предлогами.
Юрий тосковал, сам не зная о чем. В сердце и перед глазами неотступно была у него Литва. Молодость бурлила и требовала деятельности, а жизнь без цели казалась мукой.
Как-то вечером, дрожа как в лихорадке, он один собрался проехаться верхом. Швентас стоял в воротах и спросил, куда он? Юрий оглянулся по сторонам, не зная, что ответить. Вдали виднелись башни мариенбургского замка. Юрий придержал коня, на минуту задумался, потом соскочил на землю и, передавая повод Швентасу, сказал капризно:
— Пойду пешком; так будет свободней.
Холоп молча отвел лошадь, а Юрий направился к городу.
Он был несколько знаком с расположением местечка, так как из Вышгорода оно было видно как на ладони; да и в прежние времена юноше не раз случалось бывать в городе с разрешения начальства. Почему именно в данную минуту ему вздумалось пойти туда, он сам не знал. В предместье вела довольно топкая дорога, обросшая по сторонам низкорослой ивой и кустарником. Никого на ней не встретив, Юрий не успел и оглянуться, как скорым шагом добрался до первых деревянных домиков, окруженных садиками. В этой части города еще не встречалось настоящих улиц; каждый строился как и где хотел. За усадебками колонистов-землеробов стали показываться кузницы, жилища ремесленников, мастерские, домики с лавчонками, в которых откидные ставни служили одновременно прилавками.
Одежда Юрия, состоявшая из простого черного кафтана, без всяких отличительных значков, такая же, как у большинства тогдашних горожан, не привлекала ничьего внимания. Таким образом, он мог свободно углубиться в путаницу улиц, направляясь к рынку и к костелу.
Он не решался сам себе признаться, что влекло его в эту часть местечка. Но рассказы Рымоса о доме Гмунды и о красавице Банюте, которую ему уже давно хотелось видеть, направляли шаги его туда, где находилась заветная усадьба. Он надеялся, что, может быть, удастся посмотреть юную литвинку.
Положение дома и калитки, около которой он очутился, были известны ему со слов Рымоса. Далекими обходами Юрий подошел к самому забору и, заметив лошадей, а при них доезжачих, стал разглядывать, не увидит ли Рымоса. Он был почти уверен, что Рымос здесь. В молодости случаются порой такие необъяснимые предчувствия.
И действительно, Рымос лежал под забором, низко протянув к нему голову, так что не видел Юрия, не узнал его и не догадывался о его присутствии, когда тот подошел уже вплотную. Сердце юноши затрепетало, когда он услышал тихий напев литовской песни.