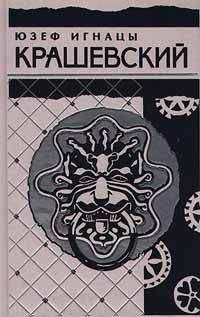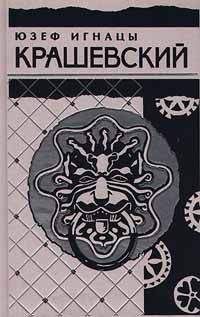И действительно, Рымос лежал под забором, низко протянув к нему голову, так что не видел Юрия, не узнал его и не догадывался о его присутствии, когда тот подошел уже вплотную. Сердце юноши затрепетало, когда он услышал тихий напев литовской песни.
Лежавший на земле малец не верил глазам, когда Юрий, ударив его по спине ладонью, назвал по имени. Рымос вскочил, но, увидев кунигаса, успел еще крикнуть Банюте сквозь отверстие в заборе:
— Кунигас!
За изгородью что-то зашуршало… И в тот же миг, уже успевшая взобраться на забор, девушка алчными глазами искала того обещанного, о котором уже столько слышала.
Инстинктивно Юрий взглянул вверх, и в ту минуту, когда Ба-нюта появилась на заборе в расцвете девичьей красы, в венке, вся зарумянившаяся, глаза кунигаса уже искали ее там.
Увидев друг друга, оба онемели, взаимно залюбовавшись. Ни Банюта не опустила взора, ни Юрий не вздрогнул под ее упорным взглядом. Упоенные, они пожирали друг друга глазами, а Рымос, следя за ними снизу, стоял как окаменелый… Не то с перепугу, не то от ревности.
Живое существо, подобного которому он никогда не видел и не встречал, сестра по крови, несказанной красоты, произвела на Юрия неизгладимое впечатление. Ему казалось, что он где-то видел ее раньше, что она была предназначена ему судьбой… И чувствовал к ней непреодолимое влечение.
Банюта была также очарована: в глазах ее светилась радость, на губах блаженная улыбка. Как ребенок, не умея лгать и не зная, что такое ложь, она протянула ему руки и перегнулась через забор. И хотя уста ее молчали, все существо красноречиво говорило:
— Приди! Возьми меня! Пойдем!
У Юрия восторг чередовался со страхом; он дрожал и оглядывался по сторонам. Все рассказы об обольстительницах — дщерях сатаны пришли ему на память… но… разве это обольстительница?.. Дочь Литвы, полуребенок… изгнанница… сиротка?..
Рымос, встревоженный продолжительным молчанием обоих, дернул кунигаса за кафтан, а Банюте указал вниз, под забор, место, у которого сам лежал тому назад минуту: здесь у них был пролом для песенок и разговоров. Там и Юрий мог приглядеться к ней поближе.
Первая поняла Банюта и с гибкостью ящерицы соскользнула вниз. Юрий уже ждал… Рымос, покорно взяв за повод лошадей, отошел на несколько шагов.
Благодаря Швентасу, Юрий мог уже разговориться по-литовски. Забытый язык, как схороненное зерно, вышел на поверхность из недр души, в которой был под спудом.
Разве можно передать беседу, похожую на воркование молодых голубей? И была ли то беседа?.. Я не знаю… Смешки, полуслова, птичье щебетанье, не песни, а мурлыканье, взгляды… Едва ли все это можно назвать музыкою речи…
Несомненно, было что-то дикое, животное в этом обмене получувственных, полудушевных, ничем не сдерживаемых признаний, помехою которым была только девичья стыдливость и невинность неопытного юноши. Девушка потягивалась, старалась быть красивой, закидывала голову, изгибалась, как приникшая к ветке птица… Ее белые зубы, голубые очи, чарующая красота движений, еще невиданная Юрием прелесть новизны, заменяли вначале членораздельную речь…
— Кунигас! — повторяла Банюта раз за разом.
Юрий кивал головой на ее слова и тихо произносил ее имя… Она смеялась, вслушиваясь в его чуждое произношение… Краснела, не знала, с чего начать… и вдруг, точно осененная, затянула вполголоса литовскую песенку, а юноша, очарованный, заслушался.
— «Там, в садочку, мать-и-мачеха цветет, там, в садочку, зацветает тмин; и куда ни обернется красна-девица, зацветают на пути алые цветы».
«По зеленому лужку идет красна-девица, в белых рученьках несет девичий венок. Темный мой веночек, веночек рутяный, далеко пойдешь со мной, далеко!»
«Будь здорова, матушка родная, будь здорова! Отец родимый, будь здоров, отец мой! Братья милые, будьте и вы здоровы! Сестры дорогие, прощайте и вы также!»
Окончив грустную песенку, девушка всплакнула. А Юрий вспыхнул от прилива бодрости.
— Не прощайся! Не надо! — воскликнул он. — Мы к ним вернемся!
— Нет, — ответила Банюта, взглянув на Юрия, — сгинем в этих клетках! — и вздохнула.
— Я освобожу тебя! — воскликнул Юрий с юношескою отвагой, сам не зная, откуда пришла уверенность в спасении.
Банюта вплотную прижалась к отверстию в заборе и спросила:
— Как?
Но Юрий, обуреваемый потоком мыслей, не сумел ответить. Он наклонился к ней:
— Мы убежим, — сказал он, — и я возьму тебя с собой!
Самонадеянность, которою дышали его слова, вызвали на лице девушки румянец счастья. И она подняла руки в знак благодарности.
Может быть, разговор их принял бы теперь более жизненный оттенок, если бы Рымос не цыкнул в знак опасности. Юрий вскочил и, увидев приближавшегося Зигфрида в сопутствии двоих товарищей, очень весело настроенных, поспешил скрыться за угол ограды.
Банюта исчезла. Крыжаки, напевая, вскочили на коней, а стремена поддерживал им Рымос. Начало смеркаться; на небе зажигались звезды. Юрий, не смея опять подойти к забору, поспешно пустился назад в Пинауфельд.
Он шел, чувствуя небывалый прилив сил жизни и сладких, невыразимых упований. Как человек, взглянувший на ослепительное пламя, долго хранит во взоре блеск его лучей, так и Юрий неотступно видел перед собою прекрасное лицо Банюты.
Перед ним открылась новая жизнь… Вчера еще он мечтал о бегстве только ради себя самого, теперь надо было думать о том, как взять с собой свое сокровище. Какую цену могла иметь для него свобода без Банюты?
Сам почти не зная, каким образом, он вышел из предместья на ту же самую тропу и беглым шагом поспешил на хутор.
Как ни торопился Юрий, наступила уже ночь, когда он вернулся в Пинауфельд. Швентас, беспокоясь, ожидал его в воротах, а домашние как всегда крикливо садились ужинать, громко высказывая догадки о том, как и где мог заблудиться юноша, ушедший из дома пешком и еще не вернувшийся? Побаивались даже, не приключилась ли с ним беда.
Когда Юрий явился на пороге, молодые Пинау приветствовали его веселым смехом, а старик воркотней и вопросами, что случилось, почему он не вернулся вовремя?
Юноша лгал и довольно неумело. Ему не хотелось сознаться в своем побеге в город. А потому он сочинил, что, заблудившись в зарослях, по ту сторону болот, не мог найти дорогу.
Возможно, что ему и не поверили. Но старый Дитрих не хотел настаивать, а молодые иронически посмеивались, когда Юрий сел за ужин. Разговор вскоре перешел на хозяйство, на волов, на лошадей, так что юноша вскоре незаметно скрылся и пошел к себе, где его ждал Швентас.
Ему Юрий также не хотел признаться, где был, что видел и какое впечатление произвела на него молодая девушка. Упомянул только, что встретил за городом Рымоса.
— Слушай Швентас! — сказал он. — Если ты не лжешь, повторяя каждый день, будто тоскуешь по своим сородичам, и если в самом деле хочешь мне помочь до них добраться, то не надувай! Поразмысли хорошенько, приступай к делу, а не то я решусь на безумный шаг и не снесу головы.
Швентас тяжело вздохнул.
— Пока я здесь на хуторе, — прибавил Юрий, — уйти легче. Если, как сегодня, я бы не вернулся к вечеру, меня бы долго ждали, потом послали бы искать, не растерзали ли меня звери… Они не скоро догадались бы, что я сбежал, и мы успели бы пройти немало… А после, когда и меня и тебя засадят в замок, тогда, даже если бы удалось уйти, скоро поднимется тревога и пошлют в погоню…
Швентас поддакивал, но ломал руки. У него давно созрела мысль, взлелеянная исподволь, в которой он еще не смел признаться. Он хотел сначала подготовиться и убедиться, что осуществление ее возможно. Бегство сухим путем было почти немыслимо. Швентас мечтал о большой лодке, в которой можно бы спуститься ночью по Ногату в море, а там, вдоль берегов, добраться до границ Литвы. Но ему давненько не приходилось иметь дела ни с лодками, ни с веслами. О рукавах реки и ее устье он имел очень слабое понятие, да и то с чужих слов. А все же полагал, что с помощью судьбы, в которую Швентас верил, бегство водой было единственно осуществимым. Плавал он как рыба. Как всякий полудикий человек, он умел плавать, не учась, и думал потому, что должен уметь и Юрий… Значит, спастись они могли бы во всяком случае, да и трудно выследить бежавших по воде… Носясь с такими мыслями, Швентас частенько бродил по берегу Ногата, заблаговременно присматривая лодку, которую можно бы похитить; о том, чтобы добыть ее иным путем, не могло быть даже речи…
Однако не будучи еще уверен в исполнимости намеченного плана, он ничего не говорил о нем Юрию. Промолчал и на этот раз.
— Рымоса мы также должны взять с собой, — прибавил Юрий, поторапливая Швентаса, — подумай и о нем… и… кто знает, — прошептал он, — придется, может быть, забрать еще четвертого…
Батрак вспылил:
— И одному-то, кунигасик, трудно, — сказал он, — вдвоем еще трудней, втроем почти уж невозможно, ну… а четверых я не берусь тащить!