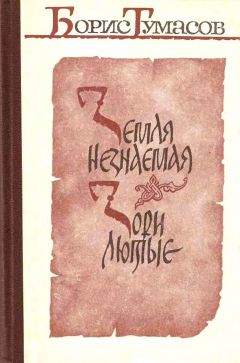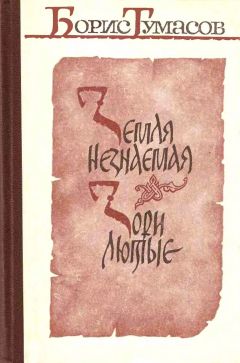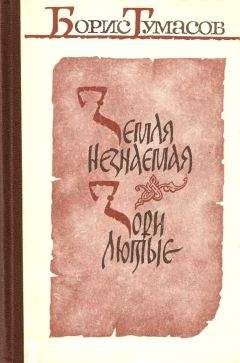Размышления нарушил заглянувший отрок:
— Кормчий Ивашка заявился.
— Впусти, — коротко бросил Ярослав.
Приезд кормчего обрадовал князя. «Значит, и Ирина вскорости прибудет», — подумал он. Вошедшего Ивашку встретил с улыбкой:
— Как путь по Волхову, совсем ли открылся?
Кормчий поклонился князю:
— Очистилась река сполна.
— А не ведаешь, стоит ли ещё лёд на Нево?
— Когда мы из Ладоги отплывали, охотные люди с верховья воротились, сказывали, тронулся.
— Добро! — удовлетворённо проговорил Ярослав, — Ну а как новый ладожский воевода?
— Ярл Рангвальд к воинскому делу пристрастен, городни новые срубил, разве что… — и замялся, не решаясь, говорить или промолчать. Но Ярослав насторожился:
— О чём умалчиваешь?
— Да что уж тут. Ярл-то Рангвальд добр, но дружина его ладожан притесняет, нередко разбоем живёт…
Ярослав нахмурился, отвернулся к оконцу. Недовольно бросил:
— Разберусь ужо!
Наступила тишина. Ивашка потоптался на месте, не зная, оставаться ли, покинуть горницу. Но вот князь снова повернулся к нему, сказал как ни в чём не бывало:
— И ты, Ивашка, каким был, таким и остался, ровно и месяцы не пролетели.
Кормчий рад перемене разговора, сказал:
— Хочу просить тя, князь!
— Ну, сказывай, о чём?
— Давно я не был в своей ожоге. Отпусти, князь, лето пожить дома…
Ярослав посмотрел на него с усмешкой:
— Не по девке ли соскучился?
— И в том правда, князь, муж я, сам видишь, не дряхл телом, — ответил ему тем же Ивашка.
— Добро, добро, поди в таком разе сыщи дворского, скажи, что я велел выдать те три гривны серебра. Не с пустыми же руками являться в избу.
Ещё не рассвело, как Ивашка, упросив воротнюю стражу выпустить его из города, шагал знакомой дорогой. Путь до ожоги не ближний, через болота с весны хода нет. Идёт Ивашка, перекинув котомку через плечо, поглядывает по сторонам. Слева Волхов, справа узкой полосой тянется лес. За ним непролазная топь.
Небо засерело, зарделась на востоке утренняя заря. Лес пробуждался одиночными пересвистами птиц, потом враз ожил, наполнился трелями и переливами. Ивашка вдруг припомнил детство, надул щеки, засвистел иволгой. На душе радостно, ноги несут сами собой. Слева остался Юрьев монастырь. Мальчишкой был, когда рубились его кельи. Не раз потом привозили они с отцом в дар монахам то мясо-дичину, то мёд в кадках.
Не замечая устали, прошёл Ивашка без отдыха весь путь. К обеду издалека увидел ожогу. Из-за высокого тына выглядывала тесовая крыша избы, верхушка нераспустившейся берёзы. За жердевой изгородью, обочь тына, чернело нераспаханное поле.
При виде родного дома Ивашка почуял, как сильнее забилось сердце и к горлу подступил тёплый комок. И что за неведомая сила прячется в человеке, которая Жадно влечёт его в отроческие края? Стареет человек, но не убывает в нем той силы, наоборот изо дня в день она зовёт его всё настойчивей, властней. В ком нет любви к родине, не уподобается не только человеку, но и животному. Ибо зверь дикий, птица ли перелётная, — всяк тянется в те места, где впервые обогрело их материнское тепло.
Задержавшись у ворот, Ивашка бегло оглядел двор. Всё как и год назад: по двору бродят куры, хрюкает в закутке свинья; в копёнку сена уткнулся носом телок, ворошит. На конюшне, заслышав человека, заржала лошадь. Узнав своего, старая собака потёрлась об ногу, завиляла хвостом. Ивашка погладил её и, скинув котомку, переступил порог.
— Свевы явились! Свевы Волхов меряют! — облетела весть Новгород.
Со всех сторон города стекался К пристани люд поглазеть на княгиню.
— Слыхал ли, нашему князю свевскую королеву в жены привезли?
— Наслышан!
— Издалека! А по-русски разумеет ли?
— Наш князь Ярослав книжник, иноземным языкам обучен!
— Позрим ужо, что за птица у Олафа дочь, — насмешливо сказал боярин Парамон, семеня за боярыней.
— Уж не припадает ли на один бок, как наш сокол, — вторит боярыня и поджимает губы.
— Но, но, вы, грибы старые, червивые, — обгоняя Парамона; прикрикивает дружинник. — Почто хулу на князя кладёте!
— Не плети пустое, — ершится боярыня, и её морщинистое лицо багровеет от гнева.
Дружинника оттирает толпа. Она прихлынула к самому берегу. За спиной у боярина Парамона тысяцкий Гюрята. Ему хорошо, голова над толпой выделяется. Парамону же, кроме спин да затылков, ничего не видно. Досадно, не каждый день бывает такое, а тут ещё боярыня под бок толкает:
— Ну что там, какова, пригожа ль?
— Отстань, неуёмная, — злится Парамон. — Тебе-то на кой её пригожесть, в постель класть будешь, что ль?
Гюрята рассмеялся.
— Не бранись, боярин, чай, она любопытства ради спрашивает. А ты, боярыня, на Парамона не серчай, ростом он мал уродился. Я те лучше обсказывать буду. Дракары-то видны те, либо и их не разглядишь?
— Ладьи свевские мне видать, — охотно отвечает боярыня. — Сколь их, две?
— Две. Боле ничего нет.
— Может, то всё враки? — сомневается мастеровой, стоящий сбоку от Гюряты. — Может, всего-навсего торговые свевы приплыли и никакой княгини с ними нет?
— Дай час, увидим, — спокойно отвечает Гюрята и оглаживает бороду.
Его глаза устремлены на Волхов, где у самого причала покачиваются со спущенными парусами дракары свевов. Борта у них смоляные, высокие, с узкими весельными прорезями. Нос самого большого украшает позолоченная голова хищного грифа.
Издалека Гюряте видно, как свевы возятся со сходнями, крепят их.
Прибежали дружинники, оттеснили толпу от берега, стали тыном.
— Значит, жди, скоро князь пожалует, — заключил мастеровой.
Парамонова боярыня приподнялась на носки, вытянула по-гусиному шею. Недовольно промолвила:
— Ничего не вижу. Сказывала, пойдём раньше. Экой!
Боярин смолчал. Негоже пререкаться с бабой, пусть даже с боярыней, да ещё меж людей. На то хоромы есть. А тысяцкий рад, боярыню подзуживает:
— Вестимо дело, надо было загодя явиться. Ну да Парамон завсегда так, нет о жене подумать. Ты уж, боярыня, построже с ним, Парамон доброго слова не понимает, я уж его с мальства знаю.
— Эк, и не совестно те, Гюрята, иль боярыня молодка какая, — пристыдил тысяцкого Парамон и, обиженный, выбрался из толпы. Следом ушла и боярыня.
Тут народ зашумел:
— Князь Ярослав идёт!
— Где? Что-то не примечу!
— Да вона, с пригорка спускается!
— Ага, теперь разглядел.
— Разглядел, когда носом ткнули! — подметил сосед Гюряты, и в ответ раздались редкие смешки.
Ярослав шёл в окружении рынд[67], по правую и левую руку воеводы Добрыня и Будый. Воеводы оба на подбор, высокие, плечистые, шагают грузно. Князь им чуть выше плеча, ко всему и худ. На Ярославе алый кафтан, шитый серебром, соболья шапка и сапоги зелёного сафьяна. У воевод шубы тонкого сукна, под ними кольчатая броня на всяк случай. Кто знает, с чем явились свевы. Сапоги, как и на князе, сафьяновые, а шапки из отборной куницы.
Шагов за десять до дракаров Добрыня и Будый отстали от Ярослава, а он приблизился к сходням. Навстречу шла Ирина в длинном до пят платье из чёрного бархата, на плечи накинут узорчатый плат, а непокрытую голову обвила золотистая коса.
Замер Ярослав. А в толпе бабий шум:
— Соромно, волосы-то напоказ выставила…
— Ха, в заморских-то странах, видать, и нагишом стыду нет.
Гюрята прицыкнул на баб:
— Не трещите, подобно сорокам, поживёт княгиня на Руси, обвыкнется.
Высоко несёт голову дочь свевского короля, гордо, на люд внимания не обращает, будто и нет никого на берегу. Со сходней на землю ступила твердо, князю поклон отвесила не поясной, по русским обычаям, а по-заморскому, чуть голову склонила.
«Властна, видать, будет княгиня», — подумал Гюрята, и, будто разгадав его мысли, мастеровой рядом проговорил:
— Идёт-то как, ты погляди, не иначе кремень-баба! А лик-то бел да пригож, ишь ты…
— Ай да Антип! — подметил другой мастеровой. — Княгине хвалу воздаёт, своей же жены не примечает.
— Своя-то она своя, — проговорил мастеровой Антип, — её Каждодневно зрить не возбраняется, а вот княгиню-то, да ещё заморскую, в кои лета поглядеть довелось.
— Коли так, разглядывай. Ай и в самом разе стойко ходит варяжская невеста.
Ярослав уже подал Ирине руку, повёл с пристани. Часть свевов осталась на дракарах, а десятка три, закованных в броню, с копьями и короткими мечами, стуча по бревенчатому настилу тяжёлыми сапогами, двинулись следом за Ириной. На викингах рогатые шлемы, поверх брони накинуты тёмные, подбитые мехом плащи. Свевы шли по два в ряд, все безбородые, с отвисшими усами. Лишь у одноглазого ярла, шагавшего впереди отряда, с чёрной повязкой на лице, седая борода и плащ не как у всех, златотканый. Гюрята знал этого ярла Якуна, старого варяжского воина, и не удивился, что король Олаф доверил ему охранять дочь. Верный языческой клятве на мече, он сражался под Антиохией с сарацинами, служил в гвардии базилевса, водил торговые караваны.