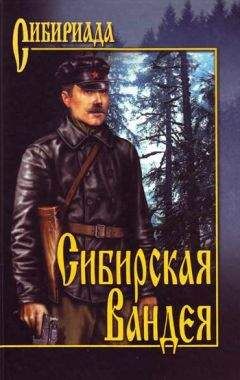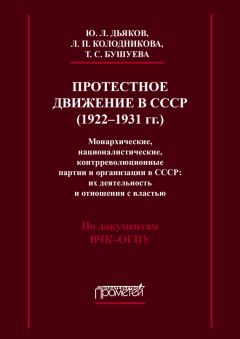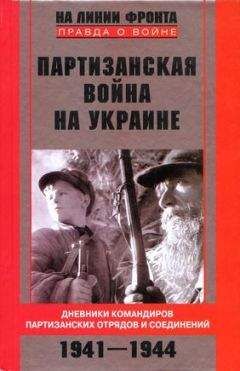– На земле мир, и в человецех – благоволение, – пропел Базыльников.
Но Губин прикрикнул:
– Тебя не спрашивают, ты не сплясывай, архиерейский певчий!.. Да проходи к столу, господин… как звать, величать-то? Ин ладно: Рогожин, так Рогожин… Приехал, видишь, что Губина нет, – сей же час приказал бы вести себя в Колыван. Не след перед стариком-то нос задирать да шапериться. Сказано до нас еще: губа толще – брюхо тоньше. Присаживайся, а мне подвинь вон того осетра заливного – ох и вкусна штука-то!.. Прежние годы я на Тюменскую ярмарку ездил, там налегал на это чюдо-юдо. В Тюмени, в «Европе», буфетчик был – Ахметкой звали, татарва, свиное ухо, а дело знал: и в рассуждении холодной закуски, и касательно женского пола – потрафит самому привередливому купцу… Да ты ешь, ешь сам!..
Галаган уже слышал о губинском купеческом хамстве. Вот и довелось сидеть рядом. Уж верно: хам так хам!.. И все же Губин чем-то нравился Александру Степановичу: экая самобытная махина, русская глыба!.. Александр Степанович чокнулся с Губиным и стал ужинать…
Губин пил нежинскую рябиновую стаканами и не пьянел. Вдруг взор купца упал на Самсонова.
– И ты здесь, Аника-воин?! Выходит, уважил нас, мужиков, не погнушался, приехал? Ну, спасибо тебе! Подходи, лапы пожмем, не стесняйся. Желательно мне с тобой покумиться…
Но Самсонов побледнел и крикнул:
– Ступай проспись сперва!..
– А ты… ваше благородие, случаем, с глузду не съехал?… Ладно, я тебе прощаю, как сегодня я добрый, я всем прощаю… Подходи, говорю – почеломкаемся…
Самсонов крикнул совсем бешено:
– Вот я тебя нагайкой поцелую, хамина!.. Ты кому это говоришь, пьяная харя! Ты с офицером конвоя его величества разговариваешь! – Тут Самсонов гаркнул: – А ну, смирр-на!.. Встать, пес! Руки по швам!
Губин прикинулся смертельно перепуганным.
– Ай-ай, до чего страшно!.. Того гляди, родимчик забьет Мишку Губина. – И вдруг, налившись кровью, тоже заорал: – Ты сам стань смирно, руки по швам! Стань во фрунт перед гильдейским купцом, а не хошь – катись к едреной матери! Нечего благородному проедаться тут в мужицкой компании… Афонька!.. Проводи его благородие до подводы, да по шеям не надо – так уедет.
Самсонов оделся, вышел, хлопнув дверью. Галаган заметил:
– Зря вы с ним так, Михаил Дементьич… Нужный человек.
Губин будто впервые увидел Галагана – до того изумился.
– А, и ты все еще здесь?! Чего ж тебе надобно, милый человек? Послушал людей, сам погуторил, выпил, закусил… Пора и честь знать.
Галаган настолько был поражен, что едва нашел в себе силы справиться с возмущением.
– Вы не настолько пьяны, Губин, чтобы не ответить на один вопрос: деньги получили?
– Какея деньги, – Губин выпучил глаза и часто-часто заморгал веками, – ты деньги мне давал?!. У тебя, может, и расписка есть, аль вексель? Ах ты, прокурат-капиталист, Савва Морозов! Едят тебя мухи!.. Ишь, благодетели! А денежки-то чьи у вас, господа? Народные… Постыдился бы! До чего вы бессовестные людишки, есеры!.. И неуважительные, и без стыда, без совести… Чего, руки в боки, стоишь фертом перед Мишкой Губиным?… Езжай, скажи своему Дяде, чтоб впредь ко мне такое хамло не посылал… Невежа! Селянин! Того пса порубанного отправил?… Проводи и этого…
Галаган, стискивая в кармане рукоятку браунинга, вышел в сопровождении угодливого Селянина и мрачного бородача, ожидавшего в сенях конца совещания.
Когда Селянин вернулся в избу, Михаил Дементьевич уже вышел из-за стола и ходил по горнице, ссутулясь, заложив руки за спину, шаркая пудовыми ногами в больших болотных сапогах с толстенными подошвами (сапоги – подарок кожевеннозаводчика Чупахина к пасхе).
Был Губин трезв, словно бы и не блестела на столе единолично опорожненная, узкогорлая бутылка с этикеткой: «Нежинская рябиновая Шустова».
– Ну, погуторили, мужики, – и за щеку!.. – начал купец. – Я вас созвал сюда, чтоб сами на этих стрекулистов-командиров полюбовались. Опять на мужицком горбу хотят в рай въехать… Только мы не дадим! Шалишь, господа хорошие!.. А теперь слушайте. Его благородие, Самсонова, мы посля к делу приспособим, некуда ему от нас податься, обижайся на мужика сколь хошь, а поклониться мужику все одно доведется. В одной берлоге обжились… А не то – всю евонную банду мигом к ногтю! А как это сделать, Мишка Губин знает… Вот так с есаулом… «Его величества конвой»! Ишь что вспомнил, казачина!.. Я тебе задам, «твое величество»!.. И все одно, мы есаула к делу приладим, а касательно есерешки – атанда!.. Махом! Вам, господа есеры, мужиком командовать боле не придется… Нам несподручно под начал ваш обратно. Нет! Касательно денежек, нашенских, мужицких, потом облитых, кровью добытых, – что ж… Денежки мы примем. Взяли и еще возьмем, мы люди не гордые… Так же и касательно винтовок и протчего там провианту. Мы для есеров теперича будем на манер уросливого коня: сколь ни сыпь ему овса в кормушку – схрумкает, не спрося чей, и спасибо не скажет, а как в оглобельки – норовит копытом запрягальщика. И стегать такого коня нипочем нельзя – пуще озлобишь, а понесет – так сноровит, чтобы екипаж о тумбу аль о сосенку, и – пропадай моя телега, все четыре колеса!.. Есть такие конишки, умные да ндравные… Как ни кобенься, господин Рагозин, – все одно нашу деревню не обойти!..
– О деле говори, Михаил Дементьич, – громко и угрюмо сказал с места Потапов. – Твои присказки да побасенки нам без надобности. Сами отлично понимаем, чо к чему… Дело давай…
– А дело будет короткое. Первое: объявите кому следоват, что создан у нас с вами революционный штаб, а в том штабе главным – я, Губин, а подручным у меня ты, Потапов, справа; ты, Базыльников, слева; Чупахин – за спиной, как бы сказать по-военному, прикрывающим. А та, Настёнка, пташечка-милушечка, у меня…
– Сбоку припеку, что ли? – спросила Мальцева, отплевываясь семечковой шелухой, и все засмеялись.
– Цыц! Ты, птаха, – моей наперсницей… на манер контрразведки, как у Колчака было… Ладно, что ли?… Аль не ладно?…
– Ладно… – глубоко вздохнула вдова-миллионщица и поугрюмела, – ладно… Коль нас всех самих Чека в рай не наладит.
– Второе дело: как погода перестанет мудрить – соберем съезд. В Кашламском бору, скажем. В аккурат цыганы там отаборятся, и будет у нас не съезд, а, сказать совдепским, – «ярманка». О точном времени – повещу всех позже. Вот, выходит, пока и все дела… Ты, Накентий Седых, и впрямь не вздумай Груздеву и Горбылину винтовки передавать. Я ить слыхал: в горнице рядом просидел. Потому как сейчас нам ружья без надобности, – вон кивают, соглашаются, – а еще потому, что до начала военных действий военное имущество должно храниться в одном месте, не след базарить его!.. Ну, все понятно, гости дорогие?… А коль понятно – давайте закладывать коней, да и по домам. Афонька, распорядись!..
Вскоре заимка опустела.
Спровадив подводы, Селянин сказал сожительнице:
– Круто замешивают… Один одно говорит, другой другое, и каждый – со своей чумичкой, а расхлебывать-то… кому придется? Эх вы, радетели крестьянские!..
– Помалкивай в тряпочку, – отозвалась сожительница, перетирая вымытую уже посуду.
– Я-то что… Мое дело петушиное: какое велят, такое и кукареку, милушка… Нам – абы гроши да харчи хороши, вот и вся наша жизнешка…
– Стелю поврозь… Устала я до смерти с вашей ордой.
В волости вслед за совещанием на чаусовской заимке произошли еще некоторые чрезвычайные события.
Колыванские милиционеры обнаружили в кювете по Пихтовскому тракту два обезглавленных трупа. Безголовых так и зарыли неопознанными, да и кому нужно было дознаваться, что из бандитствовавшего «эскадрона» Самсонова все же, несмотря на распрю главаря банды Самсонова с главарем сельского подполья Губиным, исчезли зловредный корнет Лукомский, настаивавший на налете в Яренский затон, и его ординарец, какой-то рядовой головорез.
Только много позже какие-то ребятишки-рыболовы обнаружили в оползне Чаусовского яра почтовый мешок – кису, полусгнивший, вонючий и заполненный толстыми червями. В сообществе червей лежали обглоданные могильной нечистью два человеческих черепа с простреленными лбами.
А спустя два месяца, в июне двадцатого года, в Кашламском бору состоялся «съезд представителей» мятежных групп, по два от каждого комитета. Этот «съезд» на фоне многочисленных цыганских таборов, заполнивших в ту пору Кашламский бор, прошел незамеченным, тем более что единственный любитель поболтать, участник съезда, известный в округе дурачок Ванюшка Шишлов, батрак Настёнки Мальцевой, вскоре был найден в укромном местечке бора тоже помеченным пулей, но не в лоб, а в спину.
Рассказывали, что хозяйка, узнав о гибели батрака, не закручинилась, только угрюмо сказала:
– Пес с ним!.. Умом был скуден, телом лядащ и шибко злоязычен…
Но все же, по христианскому обычаю, заказала об убиенном батраке настоятелю колыванского собора отцу Кузьме Раеву панихиду…