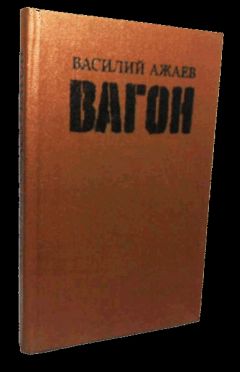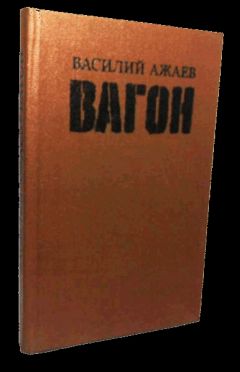В спорах и перебранках обитатели вагона часто ругали начальство, доставалось всем, даже Сталину. Зимин и Фетисов в любом споре его защищали. В массовых репрессиях они обвиняли органы, прокуратуру, кого хотите, только не его. Зимин убеждал: Сталин не знает о произволе и беззакониях, ему не докладывают всей правды. Говорят об ответных мерах на выстрел в Кирова, но умалчивают, что террор перешел все границы, подозрительность и недоверие распространились вроде чумы и тысячи, тысячи честных людей страдают напрасно.
— Разве забыли, как раньше Сталин исправлял перегибы? — спрашивал Зимин. — Вспомни-те «Головокружение от успехов». Вы скоро убедитесь: Сталин поправит органы, наведет порядок.
Сейчас горько думать о заблуждениях Зимина. Впрочем, он ошибался подобно многим и многим. Им всем казалось, что они знают Сталина. Они его не знали.
Теперь-то можно понять, почему с Зиминым, прямым и мужественным человеком, для которого критика — норма поведения коммуниста, расправились в пору первых же репрессий.
От Фетисова мы узнали о докладе Зимина на районном активе в десятую годовщину со дня смерти Ленина. Зимин призывал вспомнить стиль жизни и работы Ильича, его скромность, его яростную нелюбовь к шумихе, хвастовству, парадности, подхалимству.
Искренне полагая, что самому Сталину должно быть неприятно бесконечное воскурение фимиама со страниц газет, в речах и докладах, Зимин, по словам Фетисова, написал ему письмо, в котором советовал через печать осадить подхалимов.
Когда же сразу после выстрела в Кирова начались массовые аресты, когда знакомых Зимину людей бросили в тюрьму, он звонил и писал, протестовал, настаивал на создании комиссии из старых большевиков для проверки деятельности органов НКВД.
Рядом с Зиминым помещался некто Дорофеев — грузный мужчина с бледным одутловатым лицом. Он хворал. Жаловаться и рассчитывать на помощь не приходилось, только Анатолий Гамузов мог помочь советом. Почти все время Дорофеев лежал, и мы сначала его просто не замечали.
Он был юристом, прокурором в одном из районов Ленинграда. Фетисов едва не сблизился с земляком, но скоро они поссорились и отношения у них установились напряженные.
Ленинградский прокурор казался и нам злым, желчным человеком, слегка психованным. Дорофеев явно мешал нашим комиссарам сколотить коллектив из разношерстной компании. Стои-ло Зимину или Фетисову завести какой-нибудь серьезный разговор, бывший законовед немедлен-но подавал свой язвительный голос.
Перепалки между Зиминым и прокурором забавляли братию. Зимин говорил негромко, ровно и спокойно. Дорофеев переходил на крик.
— Не переношу ваших профессорских тирад! — кидался прокурор.
— А я не люблю истошных криков и восклицаний, — посмеивался Зимин.
— Вы уже не партийный деятель, не коммунист, вас выбили из игры! Будьте самим собой, не делайте вид, будто ничего не произошло! Неужели вы сами не чувствуете никчемность ваших наставлений?
— Произошло то, что мы с вами в тюрьме. Вы не понимаете: я остался самим собой, остался коммунистом. Был им, есть и буду, куда бы меня ни посадили. Жаль, что вы не вынесли испыта-ния и готовы все хорошее затоптать в ожесточении.
И я, и Володя, разумеется, были на стороне Зимина, возмущались Дорофеевым, его наскока-ми. Нам не нравился его скептицизм, всегда критическое настроение, безотрадный взгляд на все. Нас, молодых, придавленных бедой, тянуло к иным людям, которые во что-то верили, стремились сами удержаться на поверхности и помогали удержаться нам. Умудренный опытом жизни, я теперь вижу: мы не понимали ленинградца, не понимали всей сложности его переживаний. Он предвидел свою гибель.
За прокурором располагался московский шофер Аркадий Агошин, член партии. Он сбил человека, осиротив троих малых ребят. Рассказывая о несчастном случае, Агошин сокрушался:
— Бедняга торопился домой после смены. Жена лежала в больнице, и дети оставались одни. Я не успел затормозить. Скорость была превышена. Да я и не оправдываюсь. На суде просил отдать мне ребят на иждивение, жалко их до невозможности. Зря не отдали. Семьи у меня еще нет. Что, я не поднял бы их? Еще как! Родные его на суде кричали: вредитель ты, вражина. А я совсем не вредитель и вообще невредный.
Агошин при его ровном и хорошем характере не унывал и другим не давал унывать. Ссор не одобрял, все старался примирить своих соседей — Дорофеева с Зиминым и Фетисовым. Симпатии его принадлежали Зимину, это чувствовалось по репликам Дорофееву:
— Комиссар тебе правильные вещи говорит — очень уж злой ты. Смотри, в гада преврати-шься. Кидаешься, как овчарка.
В вагоне быстро заметили смешную привычку шофера — заранее объявлять свои действия. Скажем, собирается умыться: «Пойти сполоснуть циферблат». Или объявлял другую надобность: «Надо сбавить гидродинамическое давление».
Шофер по призванию, он любил рассказывать о машине, о том, как приятно прокатить за город девушку, об особом запахе гаража. Лучшей профессии для него не существовало. «У меня на радиаторе всегда лежит кусок хлеба с маслом».
В эту фразу он вкладывал вполне добрый смысл — мол, профессия дает приличную зарпла-ту. Однако сосед Агошина товаровед Петреев понял его иначе, и оскорбленный шофер сразу полез драться.
Когда они утихомирились, Петреев — длинный, сутуловатый, с морщинистым старообраз-ным лицом — продолжал развивать свою теорию:
— Никогда не поверю, будто шофер может удовлетвориться зарплатой. Возможности у него неограниченные, а контроля никакого. Сделал левый рейс и уже сыт, пьян и нос в табаке.
— Сейчас схлопочешь, — предупредил Агошин.
— Ладно, не буду о твоей профессии, раз ты нервный. Возьмем мою.
— Свою валяй, — согласился Агошин.
Петреев не страдал сдержанностью и мог болтать без конца. По его словам, честных людей на свете нет. Сам он был профессором в своей области и во многих комбинациях с утрусками, усушками, списаниями и переоценками «участвовал творчески». А попался глупо, хотя дело было обдумано тонко: помог уценить и списать целый склад строительных материалов.
— Раз в жизни не имел корысти, сделал все по дружбе и — на тебе! — схватил десятку, — сокрушался Петреев.
— Слушайте, вы хоть постеснялись бы, мать вашу так! — возмутился Фетисов.
— Что ж стесняться? — засмеялся товаровед. — Я же не на следствии, больше не добавят. А говорю сущую правду.
— Значит, кругом одни воры? — не без любопытства спросил Зимин.
— Конечно. Да и не только здесь — во всей Москве, во всей стране. Вы святой человек, если не знаете: у нас все воруют, во всяком случае, воруют те, кто связан с товарами, с продуктами, словом, с материальными ценностями. А почему воруют?
— Почему?
— Прожиточный минимум высок, тогда как зарплата маленькая. Карточная система к тому же все спутала: денежки превратились в пустые бумажки. Вы скажете, карточную систему отмени-ли. Верно. Но положение стало не лучше: денежки пока что остаются бумажками, на них много не купишь. И что же? Прикажете сидеть и смотреть, как семья, собственные дети голодают? У вас оклад, по-видимому, был приличный, и этой проблемой вы не интересовались. Спросите у любого. Наш Аркадий, хотя и полез драться, сам сказал: у него на радиаторе всегда лежит кусок сливочного масла.
— Ну, ты, выхлопная труба, заткнешься?! — приподнялся Агошин.
— Молчу, о тебе молчу. Ты же у нас партийный. А другой сосед — Миша Птицын, норми-ровщик. Спросите у него: разве сидит он не за то, что выводил работягам в цеху подходящие нормочки?
— Что ты брешешь? — удивился Птицын, двадцатидвухлетний крепыш с румяным даже в тюрьме лицом и пышными волосами.
— Я знаю, все нормировщики имеют свой кусок масла за комбинации с нормами. Зарплата мала, а тут есть возможность помочь себе и людям.
— Подождите минутку, — остановил говоруна Зимин и обратился к Птицыну: — Вы не можете сами сказать, за что вас взяли?
— За хулиганство, — краснея, ответил Миша. — Выпил и подрался в общественном месте. Вернее, выдал как следует мастеру и его заместителю.
— Сразу двоим? За что же?
— Пригласили меня в пивную и стали уговаривать: «В цехе тобой недовольны, не сочувст-вуешь людям, давай договоримся — ты им, они тебе».
Зимин обрадовался.
— Видите, Петреев, вы со своей теорией куска масла и всеобщего воровства попали пальцем в небо.
— Так я им и поверил, — усмехнулся товаровед. — Это они перед вами выпендриваются идейными, по совести-то у них другие песни.
— Дура! — пожал плечами Птицын.
— Петреев, слышите? Вот вам и резюме, — с удовольствием засмеялся Зимин.
Мурашов отрекомендовался в качестве художника. Он часто тулился к окошку, часами взирал на природу. Зимина это трогало.
Как-то Павел Матвеевич затеял с Мурашовым разговор об искусстве и выдвинул страннова-тую идею: