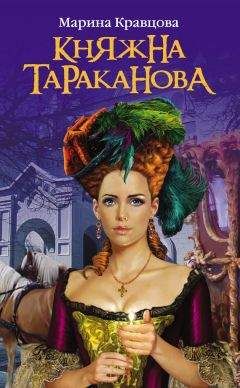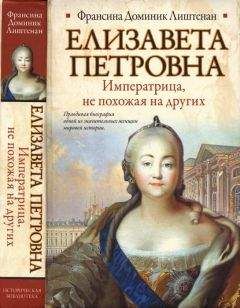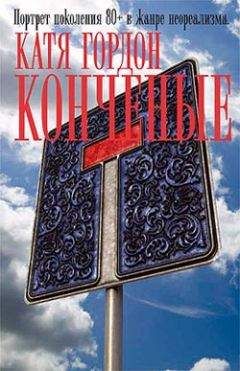– Загрустил, гляжу, не на шутку, брат? Мой совет: что бы там у тебя ни было – перетерпи. Без глупостей. Время-то летит… Время все лечит.
И время летело…
Началось все с Польши. Речь Посполитая – беспокойная соседка. Лукавая соседка. Состыкованная с Россией границами, она могла спокойно пропускать к могучей сопернице неприятельские войска и соединяться с ними по своему желанию. А православное население Польши, угнетаемое католиками, явно тянулось к «старшему брату» – народу русскому. Ныне враждебную России польскую партию поддерживал первый враг русской политики – Франция. Поэтому Екатерина, желавшая «приручить» опасную Польшу, приложила все усилия, чтобы на освободившийся трон Пястов воссел ее ставленик – давний друг Станислав Понятовский. Когда-то Стась, будучи послом в России, был любим великой княгиней Екатериной и до сих пор сохранял к ней самые романтические чувства. Но нынешнюю русскую императрицу мало трогала стойкая любовь поляка, ей важно было одно: Стась – ее сторонник. У него – своя партия. Прусский король Фридрих поддержал императрицу России. В результате Станислав Август Понятовский был избран королем польским, а Екатерина получила столь необходимое влияние на Речь Посполитую. Православные подданные Польши, осмелев, при поддержке русских войск добились на сейме равных прав с католиками. А враждебная польская партия кинулась за помощью к версальскому кабинету и Франция не пожалела средств на нужды новообразованной «в пику» Екатерине Барской конфедерации. Возрадовалась, видя надвигающуюся на Россию тучу, Австрия. Насторожилась «добрая соседка» Швеция. Внешние отношения нескольких государств завязывались в узел, который мирно развязать было невозможно. Напряженность эта уже пролилась малой кровью: Станислав Август призвал русские войска против мятежных барских конфедератов, собравшихся свергать его, а между делом чинивших жестокую расправу над православными украинцами. Польско-русские войска взяли Бар, вожди разбитых конфедератов бежали под крылышко Турции и принялись умолять Мустафу «взять Польшу под защиту», в безумной ослеплении не сознавая, что губят этим собственную страну. Австрия также оказывала давление на Порту.
Итак, Турция, которой тоже не нравилось усиление русского влияния в польских делах, по желанию друзей-европейцев должна была развязать войну, настоящую войну… Европейские резиденты при Мустафе III действовали весьма умело…
В сентябре 1768 года Турецкая Порта объявила войну Российской империи. Екатерина – напряженная, собранная, строгая – при этом известии набожно перекрестилась.
– Господь видит, – сказала она на совете, – мы не хотели этой войны! Но безумцы, разбудившие спящий вулкан, ошиблись. Не на позор сие будет России – на славу, а злопыхатели посрамленными окажутся. Я же уповаю на силу Божию и на верных сынов российских, живота для Отечества не жалеющих…
К уверенным словам государыни прислушивались с жадностью, потому что страшно было смотреть в будущее… Кто знает, кроме Всевышнего Владыки, что теперь ожидает землю Русскую?
* * *
…Тосковать было нельзя! Гриша Потемкин строго-настрого запретил себе это. Ну и что с того, что может не вернуться? Разве только он один? «Нет выше той любви, кто положит душу свою за други своя», – повторял, сочиняя прошение императрице о соизволении отправиться на театр военных действий. Да и что он оставляет здесь? ЕЕ? Она и так никогда не будет его. Память о перенесенных душевных муках? Нет, он не желал «славной воинской смертью прекратить страдания». Просто в то время, когда Родина нуждается в бойцах, стыдно прохлаждаться во дворце… Камергер! Военный чин, правда, невелик – всего лишь поручик.
…Как, кажется, давно это было, когда, нелепо потеряв глаз, он затворился у себя дома, твердо решив принять иноческий постриг! Но в те дни его мучили чувства отнюдь не христианские. Унынье сводило с ума и невозможность, немыслимость первой настоящей любви… Этой любви надлежало умереть. Но она… жила! Вопреки всему. Ее не угасил ни строжайший пост, самовольно наложенный на себя камер-юнкером, ни искренние молитвы, ни уверенность в том, что с этим миром теперь покончено навсегда. Ему оставалось только впасть в отчаяние…
В один прекрасный зимний день в дверь забарабанили.
– Господи, помилуй мя, грешного! – быстро, чуть ли не испуганно зашептал Гриша. Он не хотел никого видеть.
Не унимались!
– Отвори! – раздался наконец хорошо знакомый, сильный и чистый голос. – Отопри немедля, не дури, тезка. Я знаю, что ты дома!
Потемкин еще чаще стал отбивать поклоны, стараясь не слышать, как Григорий Орлов яростно взывает снаружи:
– Я ведь двери выломаю, ты меня знаешь!
Потемкин не двигался с места. Тогда Григорий прибегнул к крайнему средству:
– По велению императрицы!
Гриша вздрогнул. Строго взглянул на образ и, тяжело вздохнув, поплелся отворять.
Орлов ввалился в дом – сияющий, радостный, безумно красивый с мороза: щеки горели румянцем, карие глаза блестели звездами. В нетопленом жилище не за один миг растаяла серебристая насыпь крупных звездчатых снежинок на его роскошных мехах. Рванулся было дружески обнять Потемкина, но руки сами собой опустились – жуток был вид приятеля. Гриша был неодет, в белой крестьянской рубахе навыпуск, на грудь падала кучерявившаяся светлая борода. Но Орлова на мгновение испугал его остекленевший глаз с навек застывшим неживым взглядом, – потому что взгляда глаза здорового – взгляда мальчишески испуганного, почти умоляющего, чего-то жаждущего – он не видел.
– Эге, да ты и вправду…. – прошептал Григорий Орлов. – А трепали, что от службы отлыниваешь! Ну, ничего.
Орлов был не из тех, у кого растерянность длится долго. Обняв-таки Гришу, хотя и не почувствовав ответного объятия, он деловито, не спрашиваясь, прошел в его покои. И изумлялся все сильнее.
– Прям скит отшельнический устроил… Ох, а холод какой у тебя! И ставни средь бела дня закрыты!
На столе были разбросаны книги – философские и духовные. На обилие образов Орлов взглянул с благоговением, перекрестился. Потом обернулся к Потемкину.
– А ты и впрямь, тезка, в монахи возжелал?
– Тебе что до того?
Орлов не ответил. Скорыми шагами подошел к окну и резко распахнул ставни.
Едва-едва улеглась легкая метель, и тучи разошлись. Ослепительный январский свет, усиленный сверканьем бесчисленных лучистых снежинок торжествующе ворвался в мрачную комнату живым, неподдельным весельем. Орлов глянул на Гришу в восторге:
– Видал?! А ты…
Потемкин стиснул виски. Единственный глаз заломило от обилия непривычного света, сердце застучало от прилива быстрой горячей крови. Он не понимал, что делается с ним. А Григорий смотрел на Божью красоту и говорил:
– Эх ты! Да разве от себя затворишься?
– Гриша, зачем ты пришел? – Потемкин задыхался.
– За тобой. Ты нас бросил, а тебя не забыли. Государыня видеть желает.
– Государыня?! – лучик солнца из окна будто пробился в сердце, дыхание перехватило еще сильней. – Она… сама… пожелала… меня видеть?
– Сама, сама, – проворчал Орлов. – Ох, тезка, ведали мы, что ты с причудами, но чтоб с такими!.. Оно, конечно, страшно глаз потерять. Особенно в молодости… тебе сколько?
– Двадцать пять.
– Ну вот. Да только… Гриш, забудь про монастырь! Поверь, посильнее нас молитвенники найдутся на Святой Руси. А ты Отечеству послужить должен. Так мыслит государыня. Так и я думаю. Не знаешь ты себе цены…
Потемкин стоял посреди комнаты, опустив голову, растерянный, не зная, на что решиться. За окном белым-бело, снег все на свете окутал, пятнышка темного не земле не оставил… И вся эта белизна блистала под солнцем, и казалось, мир ласково пел не слышимую человеческим ухом песню…
– Баста! – решил Орлов. – Сейчас цирюльника к тебе пришлю. Камзол свой новый на выход, не надеванный ни разу, отдам. Тебе, богатырю, велик не будет. И тройка явится – не сбежишь. У меня совесть спокойна, я желание Ее Величества исполнил.
– Гриша! – Потемкин, почувствовав вдруг, как душа стала легкой-легкой, бросился Орлову на шею…
* * *
От бороды не осталось следа. Чисто выбритый, в белоснежном парике, в искрящемся бриллиантами камзоле от щедрот орловских предстал Потемкин пред государыней. Черная бархатная лента проходила через половину лица, скрывая ослепший глаз, но не только это было в нем непривычно.
Где восторженный, странный юноша, жаждущий, как чуда, ее любви? Его не находила Екатерина в этом исполненном достоинства молодом муже, глядящем на нее с прежним благоговением, но без прежней тоски. Лицо его исхудало, крупные мужественные черты стали четкими, почти чеканными, и еще яснее отобразилось во внешности Потемкина нечто – важнее красоты. За полтора года добровольного затвора о чем только ни мыслилось – за десять лет того не передумаешь! Тем паче, если ум к философии склонен. Не постарел Потемкин, но возмужал, укрепился духом, восчувствовал новую жизнь – и к испытаниям, и к счастью был готов.