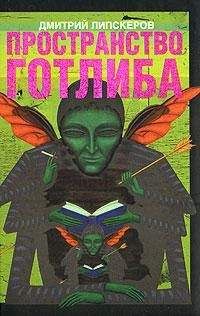Старый Ицхак слушал, подавшись вперед, и – да пошло все к чертям! – любовался сыном. Хаим был красив какой-то новой чувственной красотой. Яркие глаза словно высекали искры, тонкие ноздри породистого носа трепетали. Ходящее в горле адамово яблоко выталкивало голос со знакомой хрипотцой. Такой же кадык был в молодости у Ицхака, потом пропал. Когда же он его проглотил?.. Старый Ицхак усмехнулся.
Пренебрежение сына к миру капитала, разумеется, носит не революционный характер. Хаим отстранен, ибо не ведал нищеты. В мальчишке силен унаследованный от него, отца, дух упрямства… Но он-то нашел применение своему духу! Вбил его в коммерческое вдохновение, в купеческий авторитет, в сберегательный банк… А оголенное упрямство сына нашло выход в несуществующих химерах…
В крови Хаима бродит наследственный вызов, сын так сотворен. Что же – ломать его теперь? Делать из него отверженного, парию?..
– Человек не властен над любовью, – говорил, между тем, Хаим, – и она не ищет власти над человеком. Любовь – слияние, предопределенное Всевышним, слияние духа и тела, плоти и ребра, молока и крови, Им же вспоенных, – но только в том случае, если человеку выпадет счастье найти недостающую часть себя…
– И ты полагаешь, что отыскал эту часть.
– Да, – выдохнул сын и замолк.
Старый Ицхак почувствовал, как страшно устал. Не в этот момент, а вообще, от жизни. Бесконечно устал и миллион лет не думал о любви.
…Он женился на Геневдел поздно, без романтического увлечения и тем более без страсти. Дочь уважаемого в кагале[34] человека, она владела немалой собственностью, доставшейся ей от бездетного родственника. Ицхак взял Геневдел, девушку на пятнадцать лет моложе себя, ударив по рукам с ее отцом, – оба были чрезвычайно довольны выгодной сделкой, а невесту никто не спрашивал.
Первые годы совместной жизни, чувствуя вину перед юной женой, Ицхак честно старался вызвать в ней нежные чувства, но Геневдел и любовный пыл оказались несовместимы. Поначалу, несдержанная на слово и высокомерная, она еле терпела мужа. После привыкла и по-своему привязалась, как к неотъемлемой части ее устроенной жизни. Супругов связывали неразрывные нити – семья, дети, их дети, думы о детях… однако тепла, полного, духовного и физического тепла, что греет мужчину и женщину в холоде жизни, – не было между старым Ицхаком и Геневдел Рахиль.
Она никогда не поймет Хаима и не простит. Не потому, что злая или эгоистичная – чего-чего, а материнской любви в ней хватает. Бедная матушка Гене просто лишена чутья к другому теплу, ею не познанному, и воля мужа тут бессильна.
Старый Ицхак дорожил семейством, как ничем другим на свете, но вдруг понял, что больше всех любит младшего сына и хочет ему счастья. Пусть Хаим дышит свободно. Отец не станет его врагом.
– Раз ты все решил, я не буду стоять шлагбаумом поперек твоей судьбы, – трудно вымолвил он. – Со времен царя Соломона начались смешанные браки… Попробую подготовить Гене. Не обещаю, что удастся. Вряд ли.
– Я знаю, отец.
Они одновременно вздохнули. Повременив, старый Ицхак спросил:
– Твоя девушка красива?
– Очень.
Сын вынул из лежащей на столе книги фотографию в паспарту. Старый Ицхак накинул на нос очки, глянул и растерялся:
– Но это же… Это Грета Гарбо!
– Она не Грета. Она – Мария.
– Неужто так похожа?
– Только на первый взгляд.
– Мария, – повторил отец в замешательстве. Протер очки бархоткой и, всмотревшись внимательнее, бессознательно пошарил за правым ухом. Ничего за ним не обнаружилось, но перед глазами вдруг всплыл образ, переставший тревожить с десяток лет назад.
– Действительно, не Грета, – пробормотал старый Ицхак. – Другой породы… В твоей избраннице больше искренности и… нежности… она невысока ростом. Я прав?
– Да.
Старый Ицхак облокотился о стол и прикрыл глаза рукой.
…Белокурая Ядзя протягивала яблоко сквозь прутья плетня: «Возьмите, оно спелое, пан Исаак…»
В столбе густого солнца над нею роились золотые пылинки. Нимб пушистых волос, румяное лицо, наливной плод в тонких пальцах – все было одной материи, все ликующе вспыхивало и пылало. Проходя мимо, Ицхак с усилием отворачивался от слепящего солнечного блеска.
«Возьмите яблоко, пан Исаак…»
Он шел еле-еле, как стреноженный конь, ступал не ногами, а волей. Чтобы не думать о Ядзе, не видеть, не слышать ее, закрывал глаза, вынимал карандаш из-за правого уха, грыз его громко, с треском, и ласковый голосок угасал позади.
Дурная привычка образовалась у него в юности из-за Ядзи – носить за правым ухом карандаши, каждый день новый. Однажды сгрыз случайно, почувствовал облегчение и стал уничтожать эти начиненные графитом палочки, как ненужные желания в себе…
«Куда ты деваешь карандаши? – сердился отец. – Ешь, что ли?!» Ицхак умирал от стыда, ведь так оно и было.
Дочь нищего польского шорника, драчуна и пропойцы, Ядзя жила в самом бедном домишке на их улице. Они играли вместе в беззаботном детстве, нежно любили друг друга в отрочестве, а выросли – и Ицхак сделал свой выбор. Семья выгнала бы его, приведи он Ядзю как невесту. Потом дом поляков купил аптекарь, сами они куда-то уехали, и привычка незаметно исчезла.
– Ты пойдешь с нами в ратушу? – прервал сын отцовские воспоминания. – Церемония назначена на завтра. С моей стороны будешь ты и фрау Клейнерц, со стороны невесты – священник из Векшняйского храма и несколько человек из здешней русской общины.
…Девушка оказалась такой, какой старый Ицхак ее и представлял. Не высокая, но и не маленькая, с округлыми, где нужно, хрупкими по первому впечатлению формами, с тщательно уложенной копной рыжих волос и синими глазами. Скорее, миловидная, чем красивая. Грету Гарбо она вовсе не напоминала.
Позже его поразило сияние ее кожи, необычайно нежное, с тонкими переливами жемчужных теней, и все время, пока продолжалась церемония регистрации, а затем на скромном свадебном торжестве в столовой домохозяйки Хаима, старый Ицхак чувствовал жуткую неловкость и умирал от стыда. Каждые пять минут он ловил себя на отчаянных поисках карандаша за правым ухом и ничего не мог с этим поделать.
Они шли по сосновому лесу в рыбацкую деревню к северу от Паланги. До Паланги добирались на автобусе, – Хаим решил провести здесь двухнедельный отпуск, подаренный ему на службе по случаю женитьбы. Решил единолично, Мария лишь кивнула в ответ, – теперь она соглашалась на все, что бы он ни предлагал. Ты – муж, я – жена, поэтому повинуюсь, – говорил этот смиренно-сухой кивок.
Она шла за Хаимом, в его рюкзаке лежали и ее вещи, она впервые несла их не сама. Шла и думала с горечью, как же ловко он сыграл на обстоятельствах ее безвыходного положения, обрушив на нее сообщение о женихе, ждущем в Вильно. Сердце трепыхалось от ужаса загнанной в клетку птицей, замужество почудилось единственной возможностью укрыться от Железнодорожника, иначе страшный человек достанет ее хоть из-под земли. Хаим воспользовался этим страхом, подговорил помочь фрау Клейнерц, сумел обаять даже отца Алексия и, вырвав у нее согласие, договорился в муниципалитете оформить брак поскорее. Покупать фату и свадебный наряд Мария наотрез отказалась, взяла напрокат в салоне платье попроще. Там же ей уложили волосы и украсили прическу вощеной веточкой вышедшего из моды шелкового флердоранжа.
В ратуше Мария держалась прекрасно. Никто не заметил ее смятения, и лишь после того, как в затаенной тишине прозвучало короткое «да», сказанное ее собственным голосом, она поняла, что путь назад отрезан. Бесстрастный регистратор объявил их мужем и женой. Хаим осторожно коснулся губ Марии теплыми губами, и тут она не сумела удержать предательских слез. Отец Алексий и другие гости, наверное, подумали – ох и впечатлительная же, оказывается, наша Маша! Ведь никто, кроме фрау Клейнерц, не подозревал, что этот поцелуй у пары первый. Восхищенная старушка даже всплакнула, деликатно сморкаясь в кружевной платочек.
Сейчас Мария жалела о случившемся. Надо было сразу же открыться священнику, послушать его совета, заручиться поддержкой и остаться в Клайпеде. А уже потом, выдержав срок помолвки, может…
– Смотри, лодки, – сказал Хаим.
Черные смоленые лодки казались издалека подсолнуховыми семечками, разбросанными на берегу. На белом фоне дюн четко вырисовывались высокоствольные сосны, чью золотую кровь вечность превращает в янтарь. На протянутых между столбами шестах сохли вязанные вручную сети. Очутись здесь тысячу лет назад, картина была бы та же – дюны, сосны, сети, лодки…
Где узнать, кто в деревушке сдает комнаты, как не в лавке? Незатейливая вывеска тотчас вынырнула над терновой изгородью. По углам стояли стянутые обручами деревянные бочки, удивительно напоминающие пышные груди в корсетах, в голубоватом табачном дыму мешались рыбные, дегтярные и керосиновые запахи. Пестрое галантерейно-продовольственное богатство прилавка теснила эмалированная лохань, полная серебряных слитков сельди в жирном ржавом рассоле. За лоханью, сложив калачом руки, восседал мощный старик с лихо закрученной цигаркой во рту.