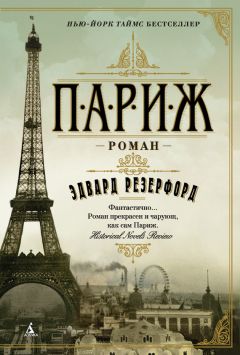Минут через десять ливень немного стих, и тогда Тома с Люком спустились со скалы и направились в сторону дома. Дождь так и не прекратился, и Люк всю дорогу жаловался, но Тома не сбавлял шагу в твердом намерении сделать из брата настоящего мужчину.
И потому он был крайне раздосадован, когда на следующее утро проснулся с больным горлом. К полудню его била лихорадка.
Болезнь Тома Гаскона длилась много недель. Поначалу все думали, что это простуда. Затем стали опасаться туберкулеза.
Потом наконец стало ясно, что это пневмония. Жар терзал его тело, он бредил, но доктор сказал родителям, что Тома может выжить, поскольку молод и крепок.
К ноябрю худшее миновало; к декабрю он начал восстанавливаться. Но в январе доктор предупредил Тома, что его легкие повреждены навсегда.
Решение предложил отец. Он был знаком с вдовой Мишель, которая вместе с дочерью держала у подножия Монмартра мясную лавку. Это было неплохое место для человека со слабыми легкими. С неохотой Тома согласился пойти туда работать, и первые недели 1887 года каждое утро отправлялся в лавку.
Однако он по-прежнему мечтал о том, чтобы строить башню месье Эйфеля, и однажды в феврале, когда у него выдались свободные полдня и погода была теплой, решил сходить посмотреть строительную площадку.
Огромный прямоугольник Марсова поля раскинулся в двух километрах к югу от Триумфальной арки, на другом берегу реки. Вплоть до XVIII века там был пустырь, отведенный под посадки, где горожане выращивали фрукты и овощи для местного рынка. Но затем на южном краю пустыря выстроили большую военную школу, и тогда сады, тянувшиеся до Сены, стали плацем для парадов и местом всенародных сборищ во времена революции. Еще позднее император Наполеон в честь одной из своих многочисленных побед приказал построить прямо напротив этого места мост Иена через Сену, после чего Марсово поле стало идеальным местом для проведения Всемирной выставки 1899 года. По новому мосту люди могли попасть на левый берег и пройти прямо под невероятной башней месье Эйфеля, четыре железные ноги которой стали по этому случаю колоссальной входной аркой. Все было готово, за одним исключением.
Тома вспомнил, как отец пришел домой с новостью.
– У твоего друга месье Эйфеля проблема, – объявил он. – Город поручил ему построить башню, но дает на строительство только четверть необходимой суммы.
– И кто же заплатит за нее?
– Сам Эйфель. Придется ему раскошелиться.
Ситуация складывалась небывалая. Готовясь отметить столетний юбилей Французской революции, город заказал строительство башни и отказался платить за нее.
Но Эйфель был не только великим инженером, но и предпринимателем с деловым чутьем и невероятной смелостью.
– Дайте мне право получения дохода от башни в первые двадцать лет ее эксплуатации, а деньги я найду, – сказал он.
Поэтому Тома, подходя к строительной площадке, знал, что перед ним лежала не только гордость Франции, но и финансовый триумф – или крах – самого Эйфеля.
Он стоял на краю огромного поля грязи. Квадрат со сторонами по сто тридцать метров, который являлся проекцией башни, был отмечен глубокими траншеями по четырем углам, ориентированным по сторонам света, и там трудились бригады.
Тома хотел подойти поближе, чтобы все рассмотреть, но к нему подбежал человек в пальто и шляпе и строго велел покинуть стройплощадку. Однако, после того как Тома рассказал о своей работе над статуей Свободы под руководством Эйфеля и о своей болезни в последние месяцы, человек сменил гнев на милость и даже предложил провести для Тома небольшую экскурсию.
Сначала они осмотрели два больших котлована в южном и восточном углу, на дне которых уже виднелся хороший сухой грунт – на такой уже можно было заливать бетонное основание. Затем они подошли к одному из котлованов возле речного берега. И Тома ахнул.
Огромная яма перед ним напоминала шахту. Глубоко внизу стоял большой металлический ящик, похожий на те, с помощью которых удерживают речные воды во время строительства опор моста. Внутри его вгрызались в землю люди с кирками и лопатами.
– Они уже опустились ниже уровня Сены, – объяснил проводник. – Участок для строительства выбирала комиссия, но когда его обследовал месье Эйфель, оказалось, что почва со стороны реки слишком сырая и не удержит обычный фундамент. – Мужчина ухмыльнулся. – У Парижа была бы собственная падающая башня, как в Пизе, только в пять раз выше.
– Так можно ли здесь строить?
– О да. У нее будет два обыкновенных сухих фундамента и два глубоких, как этот. – Он улыбнулся. – Нам повезло, что Эйфель знает, как строить в воде.
Еще три долгих месяца Тома продолжал работать в мясной лавке. Вдова Мишель была добра к нему. Но он заметил кое-что еще. Берта, дочь хозяйки, была неказистой девицей с землистой кожей и желтоватыми волосами, примерно одного возраста с Тома. Неразговорчивая и медлительная, она выводила его из себя. И потому он чрезвычайно удивился, когда в мае его отец сообщил ему с торжественным видом:
– Ты нравишься вдове.
– Хорошо.
– И Берте. – Его отец улыбнулся многозначительно. – Ты очень ей нравишься.
– Ты уверен? – И когда его отец закивал, Тома оставалось только сказать: – Ее чувства не взаимны.
– Это неплохая партия, – продолжал месье Гаскон, словно не слышал. – Она ведь унаследует лавку… Дело приносит прибыль. Женись на ней, и будешь обеспечен на всю жизнь.
– Я лучше умру.
– Человеку нужно питаться, – сказал отец. – И твоя мать считает, что это хорошая идея.
Наступило последнее воскресенье мая, и после обеда Тома отправился погулять по Монмартру. Ярко светило солнце. Выйдя на небольшую уютную площадь Тертр, он заметил, что там расставили мольберты несколько художников.
Привлекаемые невысокой платой за жилье и живописными окрестностями, художники селились на Монмартре уже не первый десяток лет. Тома слышал рассказы о том, как около ресторана «Мулен» работал месье Ренуар, и в хорошую погоду стало уже привычным видеть в округе живописцев, устроившихся писать под открытым небом.
Тома пересек площадь, поглядывая на полотна, правда без особого интереса. Художники по большей части рисовали вид с площади на строящуюся базилику Сакре-Кёр, где леса четко вырисовывались на фоне неба. Но вдруг ему в глаза бросилось нечто странное.
Перед симпатичным мужчиной лет тридцати, с рыжеватой бородкой и трубкой, зажатой в зубах, стояло два мольберта: на одном лежал альбом для набросков, на втором был натянут холст, над которым художник только начал работать. Тома глянул на набросок и остановился.
– Простите, месье, – произнес он вежливо, – но, кажется, это вокзал Сен-Лазар?
– Верно, – ответил художник с любезной улыбкой. – Этот набросок я сделал прошлой зимой. Вид со снегом, но сегодня мне почему-то захотелось заняться именно им. – Он пожал плечами. – На солнце хорошо работается.
– В прошлом году я там строил пути, – сказал Тома, всматриваясь в набросок. – Да-да, вот эти рельсы, пар от поездов. Все так, как в жизни.
– Спасибо.
– Но почему вы стали рисовать железную дорогу?
– А почему нет? Моне тоже написал несколько видов Сен-Лазара.
– Значит, вы тоже из тех, кого зовут импрессионистами?
– Можете называть меня так, если хотите. – Художник легко и часто улыбался. – Между прочим, этот термин сначала появился в качестве оскорбления. Но никто не знает, каково его точное значение. Половина из тех, кого так называют, себя к импрессионистам не относят.
– Вы здесь живете?
– В основном. Весной я был в Голландии, в городе Роттердаме. Может, скоро опять туда вернусь.
– Как ваше имя, сударь?
– Норберт Гёнётт.
– Вы знакомы с месье Ренуаром?
– Да, я хорошо его знаю. Даже позировал ему.
– Меня зовут Тома Гаскон. Живу на Монмартре. Я монтажник-металлист и принимал участие в создании статуи Свободы.
Они обменялись рукопожатием. Тома не мог оторваться от наброска.
– Мне все равно непонятно, почему вы решили написать железнодорожный вокзал.
– А вы считаете, художники должны писать только богов и богинь в прелестных итальянских ландшафтах?
– Ну, не знаю…
– Многие ждут от нас именно этого. Но что я пытаюсь сделать, и Моне, и другие, так это нарисовать окружающий нас мир. Нарисовать то, что мы действительно видим.
– Но вокзал – это же совсем не красиво…
– Вам известны какие-либо писатели?
– Я был на похоронах Виктора Гюго.
– Я тоже. Странно, что мы не встретились там, – пошутил художник. – Несомненно, Гюго был великим человеком. Но лично я предпочитаю другого автора того поколения, и это Бальзак. Он пытался описать ту реальность, которая его окружала, начиная с самого богатого аристократа и заканчивая последним бедняком на улице, а также всех мужчин и женщин между ними – адвокатов, лавочников, шлюх, попрошаек. Мы называем это реализмом. Некоторые из тех, кого считают импрессионистами, тоже работают в этом направлении. Ренуар писал посетителей ресторана «Мулен де ла Галетт». Я пишу множество разных вещей, включая поезда и вокзалы. А что касается красоты, то что она такое? Для меня железная дорога прекрасна. Потому что мы не живем в мире нимф, фавнов и классических богов. Мы живем в мире железных дорог, паровых машин и мостов, они – дух нашего времени. Это новый и удивительный мир, и жить в наше время – настоящее приключение. – Он ухмыльнулся, глянув на Тома. – Вы строите пути и мосты, я их пишу.