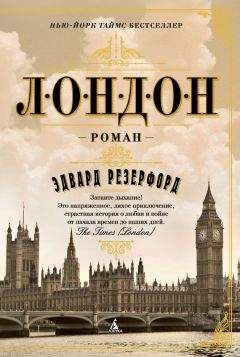Во всей этой сцене определенно присутствовало нечто странное. Площадь Фицрой-сквер, творение братьев Адам, находилась в самой фешенебельной, юго-западной части прихода. Еще непонятнее было наглядное присутствие за плечом Карпентера домовладельца, усердно кивавшего на протяжении всей речи. И самым удивительным было то, что этот человек являлся воплощением аристократии – благородный граф Сент-Джеймс собственной персоной.
С тех пор как Сэм стал графом, минуло семьдесят лет. Детство, прошедшее в Севен-Дайлсе, постепенно забылось. Порой доходили смутные слухи, иногда возникали отрывочные воспоминания, но отчим Мередит так уверенно и так часто внушал ему, что он был спасен и ему вернули его положение в обществе, что граф постепенно уверовал в это. В отрочестве он уже напрочь забыл о Сепе и знать не знал ни о каком костермонгере, пусть даже тот украдкой высматривал его то здесь, то там. Достигнув же зрелости, граф Сент-Джеймс оказался слишком занят собственными делами, чтобы думать о чем-то еще. И любовался он сейчас собой, поддерживая своего приятеля-радикала Карпентера.
Когда двое мужчин – богатый аристократ и неотесанный торговец – вошли рука об руку в комнату, выражение лица лорда Сент-Джеймса сменилось на раздраженное при виде других двоих, ожидавших внутри.
– Какого черта вы здесь делаете, Боктон? – вскричал он резко, обратившись к тому, кто выглядел более лощеным.
Хотя сыновство лорда Боктона не подлежало ни малейшему сомнению, отца и сына никогда не видели вместе. Старый граф следовал яркой моде нового поколения, названного неотразимыми щеголями эпохи Регентства, или денди. Вместо чулок и штанов ниже колена он носил обтягивающие панталоны на штрипках. Предпочитал фрак с фалдами, яркие рубашки с оборками, свободно повязанные шейные платки или галстуки. Любил ходить в цилиндре и с тростью, а его коллекция жилетов поражала воображение. Даже лихую распущенность денди граф взял себе в правило. Говорили, что он бывал на всех боях и скачках и по любому поводу заключал пари.
Лорд Боктон не увлекался пари. Несмотря на белую, как у отца, прядь в волосах, ростом и худобой он пошел в мать. Он продолжал одеваться по моде двадцатилетней давности в шелковые чулки и туфли с серебряными пряжками, носил черный с пуговицами жилет, жесткий белый воротничок и неизменно темно-зеленый камзол, на что отец совершенно справедливо говаривал: «Вы похожи на бутылку».
– Кто это? – осведомился граф, кивнув на его спутника.
– Мой друг, отец… – начал лорд Боктон.
– Не знал, что у вас есть друзья, – фыркнул граф. – Как вам понравилась речь? – Он отлично знал, что та ничуть не понравилась лорду Боктону. – Боктон, знаете ли, тори, – продолжил он, обращаясь к Карпентеру.
В эпоху Георга III существовало три политических крыла. Тори, партия сквайров и духовенства, стояли за короля и государство. Протекционисты, источником дохода которых обычно бывали скромные земельные владения, поддерживали «Хлебные законы», искусственно взвинчивавшие цены на зерно через тарифы на импорт, а потому с подозрением относились к любым реформам. Их полностью устраивал упрямый старый король Георг, безумный или в уме. Виги же, как обычно, ратовали за превосходство парламента над королем. Коммерческая партия, где по-прежнему заправляли крупные аристократы, нередко владевшие горнодобывающими и торговыми предприятиями, симпатизировала свободной торговле и умеренным реформам. Ее члены соглашались, что это абсурд, когда горстка избирателей направляет своего кандидата в парламент, а растущие промышленные центры не представлены никем, кроме правительства Англии – вполне, как резонно указывал Карпентер, по образу и подобию приходского совета Сент-Панкрас. Они также симпатизировали религиозным диссентерам и евреям, а кое-кто – даже католикам, которым старинный Акт о присяге по-прежнему запрещал занимать государственные должности. Намеченная реформа могла состояться даже при короле Георге, если бы не одна проблема.
Французская революция расположила к свободе изрядную часть Европы, но Англию научила прямо противоположному. Даже на ранних порах свирепость революционеров – их называли якобинцами – и чудовищная резня, развернувшаяся в ходе террора с его гильотинами, всполошили многих мирных англичан. А после во Франции возвысился Наполеон, который попытался вторгнуться в островное королевство. Когда доблестный адмирал Горацио Нельсон положил этому конец, сокрушив при Трафальгаре французский флот, император Франции предпринял попытку разрушить торговые связи Англии и Европы. Неудивительно, что подавляющая часть англичан, включая вигов, сплотилась вокруг премьер-министра от тори Питта – неподкупного патриота, готового защитить страну от этой напасти. Мало того, для большинства собственников революция стала ассоциироваться с войной, а объявленные права человека представлялись исключительно бойней и беспорядками.
«Обойдемся без якобинцев», – заявил английский парламент и наглухо задраил люки, не допуская на остров революционную заразу. Издали «Законы об объединениях», запрещавшие союзы и нелегальные собрания. Сторонники любых реформ вызывали подозрения, и этот страх сохранился даже после 1815 года, когда Веллингтон разбил Наполеона в битве при Ватерлоо.
Существовала третья группа политиков – кучка радикально настроенных вигов, известных под именем якобинцев, которые продолжали ратовать за реформы, терпимость и свободу слова. В мрачные годы борьбы с Наполеоном их вожаком был Чарльз Джеймс Фокс – человек симпатичный, но беспутный, погрязший в долгах. Однако даже противники признавали его величайшим английским оратором всех времен.
Вещая в палате общин, Фокс знал, что в палате лордов всегда мог рассчитывать на поддержку благородного графа Сент-Джеймса. Но в лорде Боктоне Фокс обрел врага пусть зеленого, зато неумолимого.
– Коль скоро вы спрашиваете, отец, – проговорил лорд Боктон, – то речь не показалась мне разумной. – Он сурово взглянул на Закари Карпентера. – Не следует подстрекать народ.
– Милорд боится революции? – осведомился Закари.
– Разумеется.
– И народа? – не отставал радикал.
– Как подобает нам всем, мистер Карпентер, – спокойно ответил Боктон.
Этот диалог обозначил не только взаимную неприязнь, но и более глубокие философские противоречия, которые выразились в разном смысле одних и тех же слов. Это отличие не только пролегло между английскими политическими партиями, но и разделило надвое всю англоязычную культуру – Старый и Новый Свет.
Когда о революции упоминал американец, он разумел под ней действие свободных людей, в своем большинстве владеющих некой собственностью и отрекающихся от коррумпированной аристократии и деспота-монарха. Под народом он понимал ответственных индивидуумов вроде себя самого. Но когда о революции рассуждал лорд Боктон, он обращался к исторической памяти, восходившей к стародавним временам Уота Тайлера. Действительно, многие живо помнили последние крупные лондонские беспорядки сорокалетней давности – так называемый Бунт лорда Гордона, начавшийся как выступление против католиков и обернувшийся погромами с убийством и грабежом. Аналогичным образом лорд Боктон, хотя и не боявшийся ни своего лакея, ни отдельных работников в кентском имении, которых знал с детства, приравнивал народ к ужасной, беззаконной черни. Дело было не только в статусе лорда. Такой же страх перед волнениями вообще испытывали почтенные ремесленники и лавочники, пусть и желавшие реформ.
– Мистер Карпентер, – холодно заметил лорд Боктон, – в настоящий момент я сильнее всего боюсь, что вы с моим отцом спровоцируете бунт.
Для этих страхов имелись серьезные основания. Окончание войны с Наполеоном четыре года назад принесло мир в Европу, однако ничуть не способствовало спокойствию дома. Солдаты возвращались и многие не находили работы; текстильная промышленность приспосабливалась к новым условиям, лишившись крупных заказов на мундиры; цены на зерно оставались высокими. Естественно, в этом винили правительство, и часть населения верила радикалам, которые отнесли все невзгоды на счет коррумпированной верхушки аристократов. Случилось несколько бунтов, правительство всполошилось. А в северном городе Манчестере войска всего несколько недель назад атаковали толпу, перебив больше дюжины человек. Это событие назвали Манчестерской бойней, и все последующие общественные собрания сопровождались напряжением.
– Отец, я удивляюсь, почему вы терпите это в собственном доме, – посетовал лорд Боктон.
Граф Сент-Джеймс и ухом не повел.
– Мой сын хочет сказать, – жизнерадостно пояснил он Карпентеру, – что если бы этот дом принадлежал ему, то здесь бы не было никаких радикалов. И он не понимает одного: почему я вообще продолжаю тут находиться. Он полагает, что я зажился на этом свете. Правильно, Боктон?