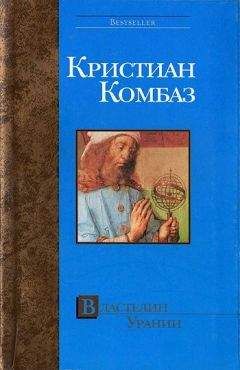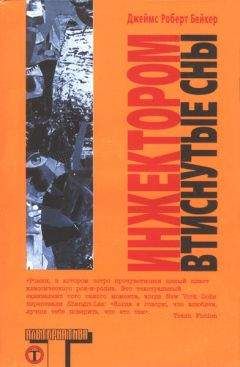Разом успокоившись, он отослал меня на кухню:· три продолговатые комнаты со сводчатыми потолками, расположенные в подвальном этаже дома, мрачнейшем подземелье, озаренном красным пламенем громадного очага. Там кто-то хлопотал над пострадавшим лакеем Йоханом, он сломал ногу, пытаясь быстрее улизнуть от графского гнева. Выпрыгнул из окна. Его подобрали во дворе с переломанными костями. Несчастный лежал, растянувшись на лавке:· его перевязывали, а он стонал и вскрикивал.
На столе, где разделывали бычью тушу, кровь раненого парня смешалась с кровью животного, издавая запах от которого меня замутило. К тому же весть о том, что я ношу у себя на брюхе какую-то диковину, успела распространиться, слуги валом валили поглазеть на моего братца, шли один за другим, а повара, подобравшись вплотную, нарочно точили ножи. Они водили лезвиями по его хребту, приговаривая:
– Он не меньше гуся, да уж больно тощ!
– Не беда, – фыркнул один. – Может, все-таки разделаем его?
– Собаки его жрать не захотят, – вставил другой.
Мысленно я что было сил призывал моего Сеньора, заклинал его меня выручить. Он в то время был в гостях у одного родича королевы, дом которого находился в дальнем конце того же квартала столицы, где обитал Рюдберг, и, охваченный волнением, живо приказал отвезти его к графу.
Часа не прошло, как они явились оба. За мной послали в этот адский подвал, где я томился в плену. И очень вовремя:· я уже был близок к тому, чтобы хлопнуться в обморок от ужаса. При виде господина Браге я подумал, что он издали услышал мою мольбу. Он поручил меня заботам своих лакеев и стал прощаться с Рюдбергом:
– Я вам весьма обязан… – сказал один.
– Для меня большая честь… – отвечал другой.
После множества церемоний и любезных врак они расстались еще большими врагами, чем раньше.
Со мной хозяин держался крайне сурово. Взгляд, брошенный им в мою сторону, когда я устраивался на подножке кареты, готовой углубиться в городские улочки, говорил о ярости, в которую приводило господина Тихо нынешнее состояние его дел. Он не мог бранить меня за то, что я провалил его хитрый замысел, ведь это бы значило в нем признаться. Также он не мог и оставить безнаказанным мое упрямство, в котором видел ответную хитрость. Но, как бы то ни было, он и не желал меня озлоблять чрезмерно жестоким наказанием, так как считал, что я способен из мести околдовать его.
За время этого пути под дождем много грязных брызг попало на мою серую одежду, но сердце мое было замарано еще сильнее. Из-за того, что улочки были слишком узки – двум экипажам трудно разминуться, мне часто приходилось спрыгивать на землю, и мои башмаки черпали грязь. Один из них соскочил с ноги. Я едва не отстал от экипажа. Возница бросил меня, совершенно растерянного, среди запертых лавок и каких-то бочек. Тут бы мне и конец, если бы меня не заметил лакей на запятках. Он крикнул «Догоняй!» и затащил меня к себе.
«Чего это ты ревешь?» – удивленно вопросил он.
Что я мог ответить? Мой хозяин отдал меня в руки этого ужасного графа Рюдберга – вот что было горько и стыдно. Но и эта печаль меркла в сравнении с той жалостью, которую я испытывал к нему. Даже если бы он бросил меня погибать, забытого или замученного дурным обращением, как тех разбойников, которых я видел в то утро у позорного столба церкви Святого Клементия – один из них был изнурен голодом, уже почти мертв, и никто, кроме меня, даже не глянул в его сторону, – но и тогда собственные горести не уязвили бы меня сильнее, чем невзгоды моего господина; ведь его ненавидели, он был осмеян, зависть и злоба то и дело затевали козни против него, а между тем он, столь же простодушный, сколь тщеславный, и вообразить не мог ни единой из тех ловушек, которые расставляли, чтобы его погубить.
В тот же вечер я от его сестры Софии узнал, нимало не удивившись, что Геллиус Сасцеридес, этот монстр, пытавшийся его отравить, тот самый, что хотел отрезать от меня моего брата, близко знаком с графом Рюдбергом и эти двое отлично ладят между собой.
Педерсена заковали в кандалы. Я при том не присутствовал, поскольку в наказание меня, как обычно, загнали под лестницу. Его конвой в полночь прибыл из Роскилле он состоял из повозки – ее тащили вооруженные люди из челяди семейства Браге – и тех шестерых всадников, которых я приметил накануне.
Пленник был сперва помещен на втором этаже круглой крепостной башни, потом, когда «Веддерен» готовился к отплытию, его бросили в трюм, сгрузив туда же часть его приходно-расходных книг. Остальные должны были прибыть позже, на другом судне.
Я увидел его, когда он сходил с корабля на остров, на нем был плащ-дождевик с широкими рукавами, который зовут рейтарским, такие носят германские кавалеристы, его прямоугольный воротник был весь измят, шляпу он потерял, сапоги его совсем запылились в застенке, и он казался изнуренным. Но глаза Педерсена в свете тонкой свечи горели свирепым огнем, и я почувствовал, что Сеньору его не сломить.
Ведь ежели он его сюда привез подобным манером, если продержал шесть недель в подземной камере, то все это он сделал, чтобы заставить его отказаться от своих прав на Гунсёгор.
А тот поклялся, что и не думает уступать. Его сыновья, и его племянник, и бургомистр Роскилле, без сомнения, сейчас добиваются аудиенции у государственного совета, у совета регентства или у королевы, чтобы принести жалобы на такое обращение со своим отцом, дядей и другом. Надо только набраться терпения и подождать.
У моего хозяина аж в голове помутилось от такого сопротивления. Многие видели, как он бродил по холмам острова, размахивая руками и сам себе что-то бормоча, будто спятивший ключник. Он целыми днями только и делал, что ломал голову, ища, как бы выпутаться из этой скверной истории без урона для чести, и без конца рассуждал перед Лонгомонтанусом, сколь далеко в сем деле простираются его права. Даже в подземной обсерватории Стьернеборга его ученому рвению случалось снова и снова отступать на второй план перед стратегическими замыслами, что рождались в его мозгу. Я был тому свидетелем, поскольку он опять, как раньше, привлек меня для запоминания результатов измерений, которые Ханс Кроль производил с помощью квадранта. Итак, я стыл у подножия холодной печи, с вожделением глядя на пламя свечки и слушая, как он гундосит, подмешивая к астрономическим расчетам расчеты придворного. То он бредил вслух о вмешательстве каких-то влиятельных персон, чья поддержка поможет ему одержать верх, то, желая отрешиться от этих низких материй, восклицал, что Сатурн или Марс всегда утешат его наперекор земным страстям.
Воспользовавшись ничтожным предлогом, он велел заточить меня на шесть дней вместе с Педерсеном. Нам не давали ничего, кроме глотка воды и жалких крох жаркого, упавших с его стола. Слуга, что ни день, бросал нам еще кусок хлеба – преимущество, которого мне бы не видать, не будь рядом моего злополучного соседа, к которому челядь нашего хозяина питала большую приязнь. Что до меня, я, невзирая на окружающие потемки, все же благословлял судьбу. Педерсен в первый же день помог мне заклясть ужасы, которыми грозило пробуждение моей памяти. Видения, будоражившие мой мозг, утихли. Я признался ему, что отмечен уродством, которое заставило бы его отшатнуться от меня с ужасом, если б не спасительный сумрак. Зато мне воспоминание о его чертах, таких благородных, помогало сносить свой жребий, а его страдания наполняли мою душу великой жалостью.
Слегка дотронувшись до меня пальцами, он убедился что я впрямь ношу у себя на боку недоразвитого брата. Тогда он стал задавать мне тысячу вопросов, и мои ответы, похоже, взволновали его. В оправдание моего хозяина я сказал, что, не будь его, мне бы не выжить. Так что он поступил со мной, как Бог с людьми: толкнул род людской в пучину страстей и мук, но без него они были бы не более сознательны, чем камешки у морского берега.
– А ты не считаешь, что лучше уж быть камешком?
Я бурно воспротивился, вскрикнул, что нет.
– И почему же?
Красота других достаточно отрадна, чтобы утешить меня в моем безобразии, сказал я ему.
Он продолжал расспрашивать меня, а я открывал ему свои самые тайные помыслы. Поговорив так какое-то время, он меня заверил, что из нас двоих я больше похож на Христа. На следующий день он повторил эту невероятную похвалу в тот самый миг, когда хозяин, потрясая подсвечником, один спустился в наш подвал, чтобы задать ему вопрос: «Ты наконец подпишешь отказ от аренды?» Педерсен отвечал, что ничего подписывать не станет, что с сожалением видит, как господин Браге сам себя ввергает в адскую бездну несправедливости, удаляющей его душу от Господа, и что он молится за него.
Глядя на нас, полуголых, Сеньор втайне упивался нашим унижением. Он часто подносил свечу, блеск которой резал глаза Педерсена, к самому его лицу, а я в эти минут мог созерцать его профиль.