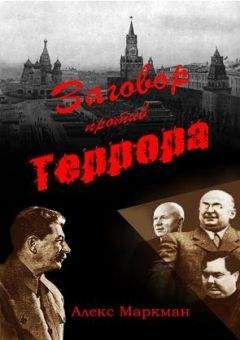— Кстати, четвертого октября еврейский Новый год, — Кирилл решил перевести разговор на более приятную тему.
Софа, не глядя на него, молча кивнула.
— Мне дали задание написать статью о посещении Голдой Мейерсон московской синагоги, — продолжал Кирилл, как будто разговор шел о будничных событиях.
Софа оживилась и вскинула голову.
— Да? Я тоже хочу! Я хоть и не религиозная и в синагогу никогда не хожу, но посмотреть на Голду. Ой, я обязательно пойду. Что это у нас? Понедельник? Какая жалость! Только начала работать и уже придется отпрашиваться на день. Но пропустить такое событие я не могу.
— Может, не следует тебе. — неуверенно пробормотал Кирилл — Знаешь, попадешься кому на глаза, сейчас ведь черт знает что творится.
— Очень даже следует! — твердо заявила Софа. — Весь мир должен видеть, что мы поддерживаем Израиль, и не боимся последствий. Нужно будет пораньше прийти, а не то в синагогу не пробьешься, народу набежит тьма-тьмущая.
— Вряд ли, — скептически возразил Кирилл — Люди боятся показать, что у них есть связи с заграницей. Уверен, что придет не больше сотни человек.
Утром, разбегаясь по своим работам, они столкнулись с соседями Кирилла, — бездетной парой в преклонном возрасте. Поздоровавшись с Кириллом и Софой, они с робкими улыбками прошмыгнули на кухню.
На улице Софа торопливо попрощалась и, засеменив быстрыми шажками к метро, скрылась в толпе спешащих на работу. Кирилл посмотрел ей вслед, словно продлевая время близости, и отправился в редакцию.
Объем его журналистской и вместе с ней оперативной работы катастрофически нарастал. Несмотря на постоянно расширяющийся круг знакомств, никаких врагов народа в любой форме он не обнаружил, хотя людей, открыто высказывающих свое недовольство нищетой и бездушием бюрократии было немало. Будет ли это основанием для их ареста? Впрочем, это не ему решать. Он выполняет свою работу, как маленькое колесико в большой машине. Солдат есть солдат: его дело не думать, а выполнять приказ.
Софа обычно звонила ему после четырех, и он старался быть в это время у себя в кабинете. Но получилось так, что он два дня подряд не смог добраться на работу до позднего вечера, а на третий день она не позвонила, но он не волновался. Софа работала в хирургическом отделении, и нет ничего удивительного, если она была занята.
Их короткие, пятиминутные разговоры по телефону доставляли ему огромное удовольствие. Они обменивались шутками, всегда вызывающими смех у обоих, порой не совсем пристойными со стороны Кирилла, но Софа никогда не протестовала против его солдатской грубости, объясняя свою терпимость к такого рода юмору своей профессией.
— В морге на вскрытии и не такое услышишь, — объясняла она. — А послушал бы ты шутки студентов во время курса венерических болезней! Бывали некоторые, безголовые, которые вплетали свои смешные замечания в идеологические лозунги. Тогда вообще. Доигрался один тут, мы его больше не видели.
— А что он сказал?
— Что социализм — как триппер. Вовремя не спохватишься — никогда не вылечишь.
— Понятно, — хмыкнул Кирилл.
На следующий день он решил позвонить ей сам. Софа просила набирать ее телефон только в случае крайней необходимости, так как им пользовалось много сестер и врачей. Поскольку она редко находилась поблизости, нужно было посылать кого-нибудь за ней, и без особой надобности это делать не следовало.
Дозвониться было нелегко: телефон почти все время был занят. Наконец ответили, и он попросил Софу Фридман.
— Сейчас, — ответил недовольный женский голос, а через минуту ему ответили, что она на операции и подойти не может.
Кирилл не переживал, что с Софой не удается увидеться. Он собирался приехать к ней в воскресенье, но закрутился со своими журналистскими делами и встречами — работа не давала покоя даже в выходной день. Что делать, все перегружены, а понедельник уже завтра, рассуждал он в воскресенье, и мы встретимся в синагоге, на встрече с Голдой Мейерсон. Вернулся он домой поздно вечером и лег спать с предвкушением скорого свидания.
//__ * * * __//
В синагоге было не протолкнуться. Люди стояли плечом к плечу уже при входе, и пробраться в зал Кириллу удалось только благодаря удостоверению журналиста и наглости, продиктованной необходимостью. Зал был битком набит. Протиснуться больше, чем на два шага он не смог. В какой-то мере ему помог высокий рост. Он видел поверх голов возвышение на котором проходила служба, а еще ту часть балкона, которая была отведена для женщин. Он попытался взглядом отыскать там Софу, потом угадать, кто из женщин Голда Мейерсон, однако его старания ни к чему не привели.
Раввины на сцене что-то пели, потом бормотали на незнакомом языке, раскрывали свитки и читали их, а потом снова пели. Те в зале, которым посчастливилось занять кресла, вставали порой, как по команде, иногда что-то дружно говорили, а иногда нестройным хором произносили «аминь». Один раз Кириллу показалось, что в неразличимой массе женщин промелькнуло лицо Софы, а потом исчезло, и отыскать ее он не смог. Потом он заметил, что головы всех без исключения мужчин покрыты маленькими шапочками — ермолками, он знал об этом правиле от приемной матери, но впопыхах забыл, и сейчас ему было неловко за свое неуважение к обычаям собравшихся людей.
Наконец, он догадался, кто из женщин Голда. Все взгляды мужчин были устремлены на нее. Женщины, находившиеся на балконе, подходили к ней и касались ее одежды, как будто это была святая, посланная с небес для спасения. Во всей синагоге витали эйфория, неземной восторг и гордость. Кириллу почувствовал себя неловко, как будто он подглядывал за сугубо интимными отношениями людей, как будто он чужак среди посвященных. Несомненно, фотографировать в синагоге было бы грубым нарушением обычаев и наверняка вызвало бы подозрения. Стоять, однако, было утомительно и скучно. Службы он не понимал, ничего интересного для себя как журналиста, так и осведомителя он не видел, потому, деликатно протискиваясь меж плотно прижавшихся друг к другу людей, вышел из душного зала синагоги на улицу. То, что он увидел, потрясло его. Небольшая площадь, примыкавшая к синагоге, и все смежные улицы, которые вели к ней, были заполнены людьми, стоявшими почти так же плотно, как и внутри синагоги. Они улыбались, возбужденно переговаривались, то и дело поглядывали на вход в синагогу. Сколько их здесь? Не сто-двести человек, как предсказывал Щеголев. Десять, двадцать тысяч? Может, и больше. Такое бывает только во время массовых демонстраций в государственные праздники. А здесь. Такое поклонение иностранному представителю будет рассматриваться как предательство, измена родине, тут уж не могло быть сомнений. Открытая демонстрация верности иностранному государству! Не нужно даже доказательств измены родине, они и так налицо.
Кирилл вышел на Большой Спасоголенищевский переулок, здесь нашел подходящее место для съемок и стал, как все, ждать. Опытным взглядом он обвел толпу в поисках переодетых сотрудников МТБ, но точно определить никого не смог. Если они и были здесь, то в очень малом количестве. МТБ явно просчиталось; оно не готово было к такому нашествию. Кому могло прийти в голову, что соберется такая толпа? Грубый просчет, ничего не скажешь.
Вдруг толпа всколыхнулась, как колосья в поле от порыва ветра, зашелестела, забормотала и затопила тротуары, мостовую и любой клочок земли, где можно было пристроиться.
— Голда, Голда, — послышались крики и непонятные восклицания на идиш, женщины радостно всхлипывали, мужчины возбужденно басили. Когда Голда, стиснутая толпой, появилась в поле зрения, он быстро сделал первый снимок. Потом второй, третий. Он ожидал, что люди, заметив, что он фотографирует, будут закрывать лица, прятаться друг за друга или просто убегать. Ничего подобного не произошло. Мало кто обратил на него внимание, да и те никак не реагировали.
Около Голды в это время творилось нечто невообразимое. Одни пытались дотронуться до нее, как до богини-исцелительницы, другие целовали края ее одежды, а кто-то падал перед ней на колени. Как мужчины, так и женщины, плакали, сотрясаясь как в болезненном экстазе. Голда продвигалась медленно, боясь наступить на кого-нибудь или оттолкнуть.
«Какая бьющая по мозгам разница между встречей израильского посла и наших руководителей!» — подумал Кирилл. У Голды нет никакой охраны. Нет машин с водителями, даже такси нет, чтобы подвезти ее к гостинице. Нет комсомольских и партийных энтузиастов, несущих плакаты и портреты партийных руководителей. Нет огороженных улиц, солдат с автоматами наперевес, с патронами, загнанными в патронник на случай отражения атаки врагов народа. А причина этому проста. Нет у Голды здесь врагов, которые хотят ее убить, потому что она не сделала никому зла. Не нужны здесь транспаранты, кричащие о любви к ней, поскольку любовь, а вернее обожание, настолько очевидны, что не требуют никакого подтверждения. Более того, люди пришли сюда, несмотря на то, что рисковали, их могли загнать на долгие годы в тюрьмы, лагеря, если не хуже.