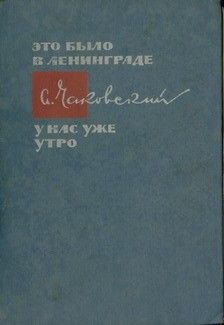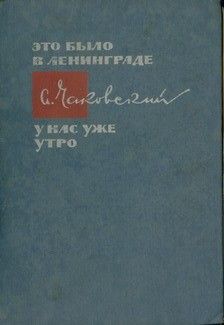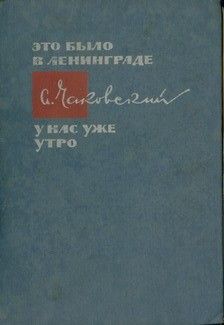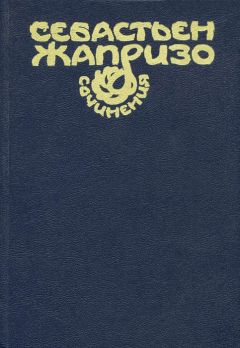– Ну, мы ещё поговорим об этом, – сказал я. – А теперь у меня есть к вам вопрос: что случилось? Вы обижены на меня за что-нибудь? Не будете же вы отрицать, что ваше отношение ко мне резко изменилось.
– Не буду, – отрезал Андрюшин и с вызовом посмотрел мне в лицо.
– Так что же случилось?
– Вы знаете, – продолжал после некоторого молчания Андрюшин, – мне перестало нравиться то, что вы пишете. Да, да, – заторопился он, – вы, конечно, можете надо мной смеяться, я для вас мальчишка, начинающий. Но раз вы меня спрашиваете, я отвечаю.
– Что же именно вам не нравится?
– Ваши очерки, – заявил Аидрюшин и быстро добавил: – Я говорю не о литературной стороне. Здесь я не судья.
– А о какой же?
– О внутренней.
– Не понимаю.
– В ваших очерках все есть и все правильно. Но мне кажется, что. то же самое, слово в слово, вы смогли бы напечатать и на любом другом заводе. Я сам не знаю, как это получилось, товарищ Савин. Ведь я восхищался вашим мастерством, я знаю, мне у вас учиться и учиться надо. Но вот вижу – не то. Что-то не то.
Мы подошли к заводским воротам.
– Так как же, поможете лаборатории? – спросил Андрю-шин, когда мы вышли из проходной.
– Я подумаю, – сухо ответил я.
– Так. Понятно, – сказал Андрюшин. – Мне на автобус – И он зашагал в сторону.
Я медленно шёл к трамвайной остановке. Настроение было подавленное. Мысли мои снова вернулись к заметке об Иванове. Эта история не выходила у меня из головы.
«А что, если я сейчас пойду к Иванову и поговорю с ним? – подумал я. – Ведь я всегда могу вернуться к этой теме».
Я знал, что Иванов живёт недалеко, рядом с Ириной. «Зайду», – решил я.
Иванов сидел у окна и чинил электрический чайник. Когда я постучал и вошёл, он внимательно посмотрел на меня, прищурился, и я не понял – здоровается он со мной или нет. Я поклонился:
– Здравствуйте, Иван Иванович. Я из редакции «Машиностроителя». Мы с вами и раньше встречались…
Иванов по-прежнему молча смотрел на меня, держа в руках чайник. Мне было неловко от его молчания, и я продолжал:
– Мы ещё во время блокады встречались. Я девушку разыскивал…
Иванов поставил чайник на подоконник, встал и протянул мне свою широкую ладонь.
– Ну, заходите. А я чайником занялся. Спираль новую приспосабливаю.
– Перегорела? – спросил я, чтобы подольше не начинать разговора.
– Перегорела, – ответил Иванов и добавил: – Третья за месяц. Портачей много ещё в электротехнике работает. – Он
пошевелил усами и замолчал. – Угостил бы я вас чаем, да вот спираль чёртова…
– Иван Иванович, – начал я, – я видел, как вы в печь лазили. Вот я и пришёл к вам, чтобы понять, чтобы выяснить…
На словах всё это получилось очень глупо.
– Что выяснить? – спросил Иванов.
– Да нет, – поспешно ответил я, – просто я не так выразился. Вы понимаете, мне вот хочется написать обо всём этом для газеты…
Иванов снова взглянул на меня исподлобья и проговорил повеселевшим голосом:
– Вот вы о чайниках бы лучше написали. Протащили бы электриков, сукиных детей. Чаем нельзя даже попоить человека!
Он явно подсмеивался надо мной. Я сказал:
– Ну ладно, Иван Иванович, не хотите говорить, так я пойду.
Иванов ничего не ответил, но, когда я был уже у двери, остановил меня:
– Погоди.
– Иван Иванович, – обиделся я, – ведь мой вопрос относился к тому, что вам ближе всего. Речь ведь идёт о вашем собственном поступке…
– Что ближе?! – протяжно переспросил Иванов. – А почем ты знаешь, молодой человек, что мне ближе?
Он повернулся ко мне спиной и стал смотреть в окно. Я подошёл к нему.
– Вот он, завод, видишь? Кипит… А я помню… Многое помню… И когда тут не завод, а заводишко был… И как завод родился… Л потом война… Хочешь, скажу, когда сталелитейный последнюю плавку разливал? Могу. Двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Тока уже не было, телёжку мостового крана вручную передвигали. И я двигал. Теперь спроси меня, когда стали цеха работать. Апрель тысяча девятьсот сорок второго. А фронт ещё тут был – километра три-четыре. Понял? Ты вот про это напиши. Ты ко мне не за помощью пришёл? Ладно, могу тебе тему дать. Напишешь – героем станешь. Надо в угольную гавань ехать. Кому ехать? Транспортников нет – кто на фронте, кто на Ладоге… Литейщики сами поехали. А тут обстрел. Только обстрел обстрелу рознь. В тот раз такое светопреставление было… А вывезли. И кокс вывезли и антрацит. Потом олифа кончилась, песок и глина кончились, литейный чугун весь вышел. Чуешь, что это такое? А цех работал. Или как станы восстанавливали под обстрелом. Крупносортный и обжимный. Или мелкосортный номер два… Ты вот в это вникни!
Иванов повернулся и взглянул на меня. И – странное дело – во взгляде его маленьких и, как мне казалось, сердитых глаз я теперь не увидел того снисходительного презрения, той издевки, с которой они смотрели на меня вначале. Напротив, я увидел в них что-то такое, что не отталкивало, не унижало, а, наоборот, звало меня к себе.
Иванов положил мне руку на плечо и продолжал:
– Или вот про салют двадцать седьмого января тысяча девятьсот сорок четвёртого года – День Победы Ленинграда. В тот вечер я из цеха не выходил. Чугунолитейный первую плавку выдал. По жёлобу вагранки чугун потёк – вот это салют и был… Салют что – бенгальский огонь. А тут – сама жизнь по жёлобу льётся. Вот ты про это напиши.
Иванов легонько толкнул меня рукой, лежащей на плече, точно посылая немедленно идти и писать. И вдруг сказал неожиданно:
– Ладно, угощу тебя чаем.
Он взял со стола чайник, который чинил перед моим приходом, и быстро вышел из комнаты. Я остался один и стал размышлять обо всём том, что услышал. Нет, не слова Иванова поразили меня. Поразил тон, каким всё это было сказано. Казалось, что он впервые оглянулся назад и, увидев за своими плечами прожитое, внезапно сам удивился.
– Вот у соседей нацедил, – заявил он, ставя чайник на клеёнчатый кружок и доставая из старинного, выцветшего буфета два стакана и сахарницу. Чай он наливал большой струёй, резко наклоняя чайник, доливая стаканы до самого верху.
– Почему я с тобой говорить стал? Пишешь ты… Вот пиши про завод… Для одних людей он, может, так, рабочее место, а для других – жизнь… Для меня, скажем. Из-за завода живу здесь… и в войну не уехал… – Он второй раз повторил эту мысль: завод – жизнь.
Иванов отодвинул свой наполовину выпитый стакан и постучал пальцами по столу.
– Написать по-настоящему об этом трудно… Сумеешь ли? Он снова стал таким, каким казался мне раньше: угрюмо-ироническим и неразговорчивым.
Я представил себе, как пойду сейчас домой – и всю дорогу в моих ушах будут звучать колючпе и обидные слова Андрюшина и вопрос Иванова: «Сумеешь ли?» И ещё я почувствовал, что не смогу поделиться всем этим с Лидой, рассказать обо всём, что волнует меня, потому что у неё у самой на сердце горе.
«Нет, – сказал я себе, – надо что-то решить». (Я почувствовал, что история с Колей не закончена, что тоска Лиды растет.)
И вдруг мне захотелось сделать все, только бы моя Лида была счастлива…
Дома я подошёл к Лиде:
– Знаешь, Лидуша, я обдумал… насчёт Коли.
Она вздрогнула, обернулась ко мне. Я поспешно договорил:
– Давай возьмём его… Что же в конце концов. Поставим кроватку вон там, где раньше стоял шкаф.
Кровь прилила к её щекам, на ресницах заблестели слёзы.
– Да ну, что ты, что ты, – говорил я, успокаивая её. – Комната у нас не такая уж маленькая, поезжай завтра за ним.
Она схватила меня за руки и заговорила быстро, срывающимся голосом:
– Сашенька, Сашенька, это правда, ты действительно так думаешь? Это правда?
И она расплакалась и плакала долго, хотя я делал все, чтобы успокоить её. Я говорил, что Коля и в самом деле хороший мальчик и я заметил это ещё тогда, когда он был у нас, что я не согласился сразу только потому, что все это получилось так неожиданно.
Лида подняла голову. Она уже больше не плакала, хотя глаза её были мокры от слёз. Она обняла меня и проговорила шёпотом:
– Сашенька, я никогда, никогда этого не забуду… Это самоё большое, самое большое счастье.
А я подумал: «Теперь всё снова будет хорошо».
Коля появился у нас в воскресенье. Я привела его в полдень. Все эти дни после работы я бегала по разным инстанциям, оформляла, и вот теперь всё было в порядке.
– Вот ты и дома, Коля, – сказала я, когда мы вошли.
Он был одет в длинные брюки и суконную рубашку и казался выше и старше своих лет.
Саша встретил его очень хорошо. Он помог ему соорудить столик для книг и тетрадей возле кровати, стал рассказывать историю этой комнаты, которую, кстати, безуспешно рассказывал уже в прошлый раз. Я понимала, сердцем чувствовала, что он делает всё это не только для мальчика, но и для меня, я видела, как велика и жертвенна любовь Саши ко мне. И от этого он становился для меня ещё дороже. В течение первых же дней пребывания Коли у нас я заметила в мальчике черты, которых раньше не замечала.