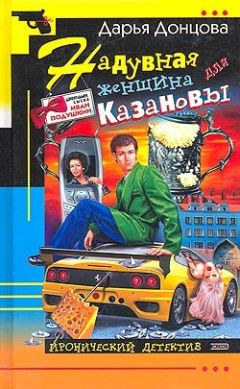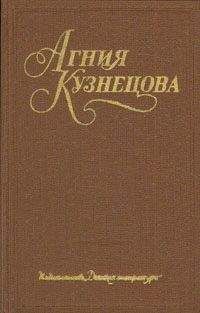— Жда-а-ать! — сдерживая и солдат, и себя, почти зловеще прохрипел обоим расчетам Матушкин. — Ждать! — И, должно быть, боясь окончательно отстать от танков, на всякий случай сыпанув еще парою залпов фугасных в сторону уже уничтоженных ими ложных «опэ», немецкие самоходки стали осторожно выползать из-за бугра. — Первое — по правому! Второе — по левому! — словно боясь, что его услышат и там, в чревах вражьих машин, негромко отдал приказание Матушкин.
Выслеживать, таиться, терпеливо, по-рысьи выжидать Матушкин учился годами. И, поборов было охватившее его опьянение, он еще лучше теперь знал: хватит у них мужества, выдержки выждать, когда самоходки полностью выползут из-за бугра, выцелят их точно наводчики, выберет он нужный момент для последнего победного залпа, когда они, разворачиваясь, подставят полосатые, словно матрасы, крутые бока или горбатые спины, и решится все. Кому, решится, остаться здесь. Навсегда!
И только когда вторая самоходка показалась целиком и начала разворачиваться, а первая уже развернулась, Матушкин яростно, упоенно рявкнул:
— Огонь!
* * *
Прежде чем распечатать письмо, Матушкин, крякнув, присел на еще холодную майскую землю. Повертел треугольничек письма перед глазами. И вдруг резко склонился к нему. За цифрами номера полевой почты прочел: «К. 3. Зарьков».
Короткие обкуренные пальцы не подчинялись, треугольничек сопротивлялся, Евтихий Маркович нетерпеливо рванул его. Он раскрылся. Жадно разгладил на коленке ладонью тетрадный листок. Вцепился глазами в первую строчку.
«Пишет вам, — читал Матушкин, отец Олега — Олега Константиновича Зарькова, Вашего бывшего коллеги, соратника по батарее. Я в Свердловске, в госпитале. Ранило меня во время бомбежки нашего полевого госпиталя. Лежу вот и думаю, почему не наоборот: сына лучше бы, даже так тяжело, как меня — в руки, в ноги, в живот, поправился, пожил бы еще, а меня б как его — наповал. Как это страшно, Евтихий Маркович, переживать своих детей. Нет ничего страшней, несправедливей, чем это. Ничего! В мирное время я бы такого, наверное, не вынес, не пережил. Он ведь единственный у нас. Простите, не могу об этом писать, не могу, хоть и знаю — не я один такой несчастный отец, многие сейчас теряют своих детей.
Прошу Вас, Евтихий Маркович, напишите нам о сыне. Все, все напишите. Поймите, сейчас каждая подробность, каждая деталь об Олежке необходима нам. Жена теперь со мной. С ней вообще плохо. Боюсь за нее. Прошу Вас, все, все напишите: как он воевал, о чем говорил с Вами, с солдатами, может быть, думал вслух. Где, как похоронили Вы нашего сына? Как нам найти его? Может быть, остались какие-нибудь бумаги, письма, а может быть, и фотографии после него остались? Умоляем Вас, ради бога, пришлите. Все до последней ниточки, что от Олежки осталось, пришлите. А фотографии мы переснимем и все, все Вам вернем. Пожалуйста…»
Матушкин смотрел в письмо, но дальше не получалось читать — буквы стали расплываться. И вдруг огромной заскорузлой ладонью сжал, скомкал письмо. Вязкая волна чужой, своей собственной боли накатилась вдруг на него. Слезы выступили. И поползли, поползли по обветренным, шершавым щекам. Боясь слез, еще больше боясь их вытирать, показать, Матушкин склонился к самой земле. Так и сидел. Письмо в кулаке. «Эх, Олег, Олег… — хлюпнул носом он. — А Колька?.. Боже, что будет с Колькой? Такой же не обстрелянный сосунок. — В памяти всплыл Олег, каким нашли его у орудия: болванкой, как топором, перерубленный пополам. — Неужто не уцелеть и Николке? Тоже куда-то сюда, — вспомнил он письмо от него. — Всех сейчас гонят сюда. Что-то здесь затевается. — Стиснул ладонями лоб. — Рядом совсем. Рукой подать. А не свидеться. Нет, не свидеться. И собой… Ох, собой не прикрыть».
Подбежал Нургалиев. Матушкин еще ниже пригнулся. Будто подтягивал голенища сапог, а сам прятал лицо. Медленно встал. Покачивало немного, в глазах стоял влажный туман.
— Товарищ старший лейтена-а-ат, второй орудий…
Что-то, видимо, заметил узбек на командирском лице, замолчал. Подбегали, докладывали остальные командиры расчетов. Матушкин безучастно выслушивал их, не глядя ни на кого, и тупо, отрешенно молчал. Разжав кулак, теребил, расправлял письмо пальцами.
Все молчали, косясь на письмо. Матушкин все никак не мог собой овладеть. Наконец махнул вдоль колонны рукой.
— По маши-и-инам! Заводи! — догадался, закричал во всю глотку за батарейного Ваня Изюмов. Матушкин кивнул ему, устало махнул рукой.
— Поехали.
— Есть! — кинул Ваня руку к виску. И, прихрамывая — зацепило пулей тогда, в феврале, слегка и его, — последним побежал к своему «студебеккеру».
«А если бы не я, а Олег встал тогда на погосте? А я в хуторке? Кто бы погиб? Он или я? Или никто? — снова затерзала Матушкина проклятая эта мысль. Вспомнил опять тот короткий шальной миг, когда мог погибнуть и он, и весь его взвод. Как едва удержался сам и солдат сумел удержать. Осилил минутный пьяный восторг. Как выдержка, хитрость, расчет взяли верх. И все-таки промазал тогда. Скосило Орешного и Чеверду. Да и Изюмова вот зацепило. Все, казалось, учел. А забыл про вторую танкетку. А она, сука, вырвалась из плена могил и давай свинцом поливать. Самоходки выждал, спалил, а она тут как тут. И давай… Очередь, очередь… Вот когда полный щит бы помог. А он-то щиты посрубил. — Вот и знай, где соломку, сенца подстелить. Всего не учтешь. Нет, не учтешь. Не вся, значит, правда моя. Но и он, — все равно недовольно подумал об Игоре Герасимовиче Матушкин. — Других же сберег? Сберег! И пушки остались целы. А танков набили тогда — не верится до сих пор. Помог и Зарьков. — Вспомнив Олежку, Матушкин снова потемнел: нет больше Олежки. И Лебедя нет, кровью истек — оторвало обе руки. И Орешного, и Чеверды. Тяжко вздохнул. — А если бы я и там, и там? И на кладбище я, и на хуторе? — мелькнула совсем уж дикая, нелепая мысль. — А-а, чертовщина какая-то. — Но тут же вновь кольнула прежняя горечь. — Да, опыта, сметки, видать, не хватило у Малыша. — Не хватило чего-то такого, что за войну, да и до нее выработала в нем, таежнике, промысловая жизнь. И, наверное, окажись тогда и в хуторке такой же, как он, кто его знает, возможно бы, все обошлось, остался б Олежка живой, не жгло бы пальцы, всю душу горькое это письмо. Ну что он тогда успел передать только-только пришедшему из училища юному офицеру, мальчишке еще? За две-три недели… Почти ничего. Только то, что вынес из училища, то, считай, и было при нем. А жизненного, кровного, из опыта своего — ничего. — Этим бы, живым все передать, — думал Матушкин, наблюдая прояснившимися уже глазами, как резко, четко командовал Нургалиев, как проворно заглядывал в кузова тягачей, проверяя готовность к маршу, Изюмов, как держали на случай команды «воздух» трофейные «машиненгеверы» Лосев и Яшка. — Этим вроде уже передал. Схватили уже кое-что. Закрепили в боях. Доказали». Командирами, солдатами своими, почти всеми, даже новенькими, из пополнения, Евтихий Маркович Матушкин был доволен. И техникой новой, полученной буквально на днях, но уже неплохо освоенной, новенькими «пятидесятисемимиллиметровками» и неведомыми дотоле подкалиберными снарядами к ним и могучими заокеанскими тягачами Матушкин тоже был доволен.
Сменив убитого Лебедя, еще жестче, еще беспощаднее к себе и другим стал вновь испеченный командир батареи.
«Ну, чего он там?»- чуть было раздражился таежник. Но тут взревел «студебеккер» и командира четвертого расчета младшего сержанта Барабанера. И вся колонна ждала теперь только его, комбата, последней команды.
— Колонной! Дистанция — двести метров! За мной! За командирской машиной! Ма-а-арш! — крикнул Матушкин и, еще раз окинув взглядом орудия и тягачи, шагнул к своему «шевроле».
В кабине его тряхнуло. Тронулась следом машина и Нургалиева; дернулся, качнулся красивый длинный и тонкий, словно игла, пушечный ствол, и на нем свежие белые звезды — по числу подбитых узбеком танков. Взревев, двинулись остальные три «студебеккера» и прицепленные к ним орудия сержантов Изюмова и Голоколосского, а Барабанер замыкал весь строй. Орудия, мягко и легко подрессоривая на еще несработавшихся амортизаторах, высоко и покуда мирно задирали стволы в небесный майский простор.
Всю бригаду в полночь подняли. Рассредоточили. И по непросохшим еще весенним дорогам спешно погнали под Белгород, на Обоянь.